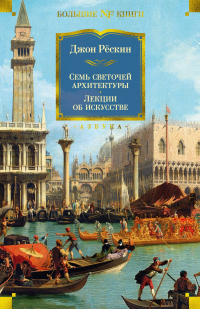Шрифт:
Закладка:
Астрология — древнейшая наука о небесных светилах и их влиянии на все живое на Земле. Она зародилась на берегах Евфрата, откуда впоследствии распространилась в Египет, Малую Азию и Грецию. Для людей эпохи Античности астрология, наряду с магией, была способом познания окружающего мира, предсказания будущего и подчинения сил природы. Однако во времена поздней Римской империи с распространением христианства отношение к античным учениям изменилось на пренебрежительное, и предсказательная практика оказалась под запретом на законодательном уровне. Тем не менее в Византии VII–XIV веков интерес к астральной дивинации не угас: апологеты древнего учения пытались представить его легитимным и соответствующим христианскому вероучению. Идея состояла в том, что, если изучение небесных тел поможет расшифровать их значение для людей, — такой труд следует считать благочестивым и прославляющим Творца через исследование Его творения. Благодаря свидетельствам анонимных ученых, светских интеллектуалов, монахов и императоров автор пытается проследить, как наука о звездах, вместе с астрономией и математикой, искала оправдания своему существованию в новом христианском обществе.