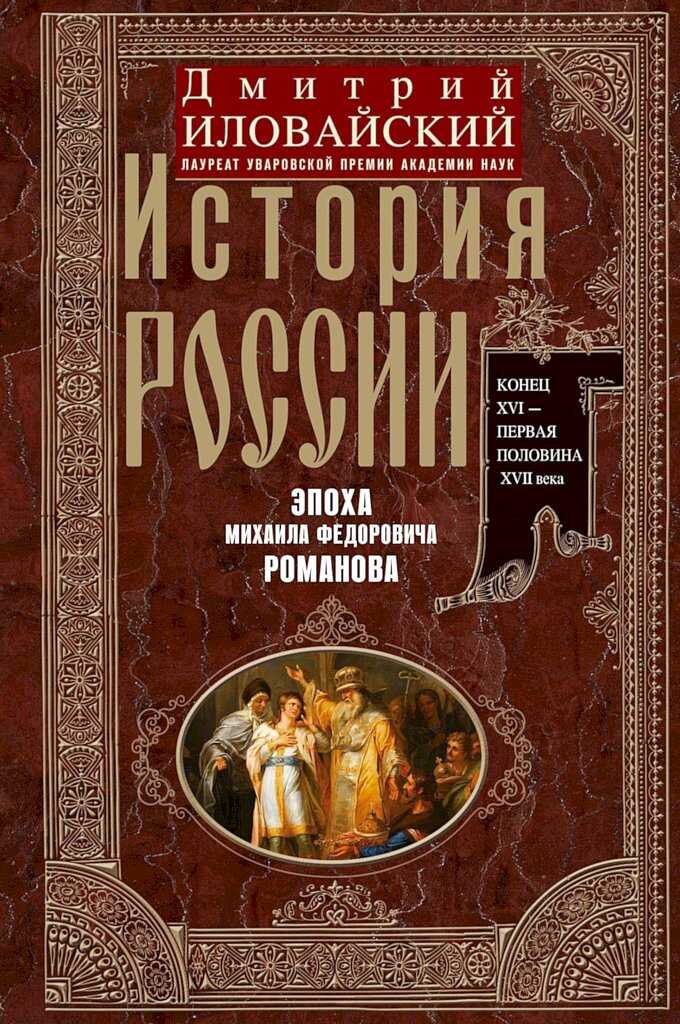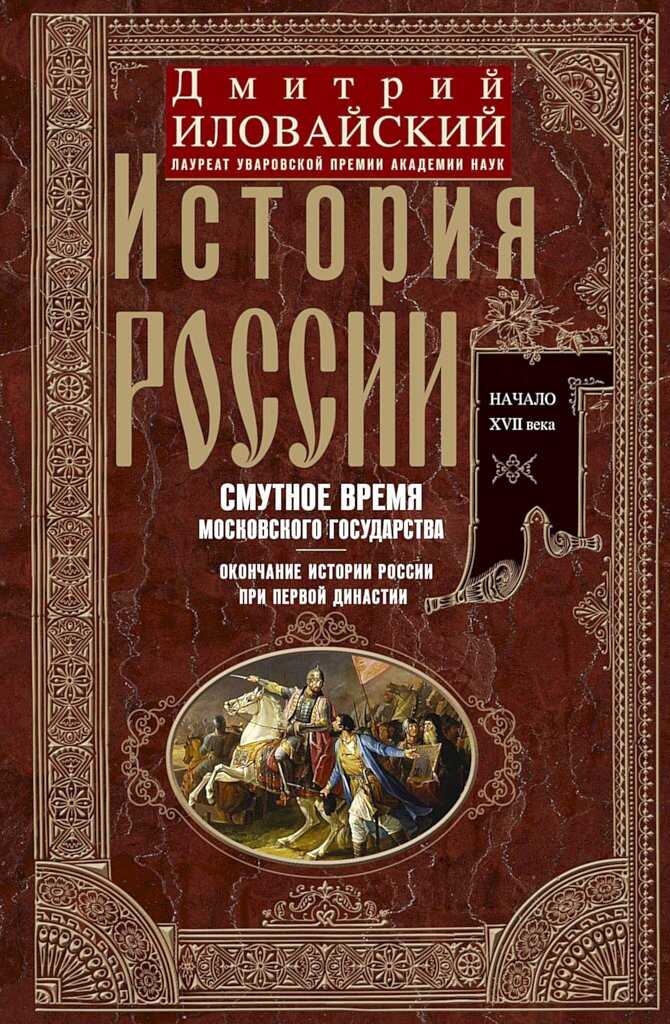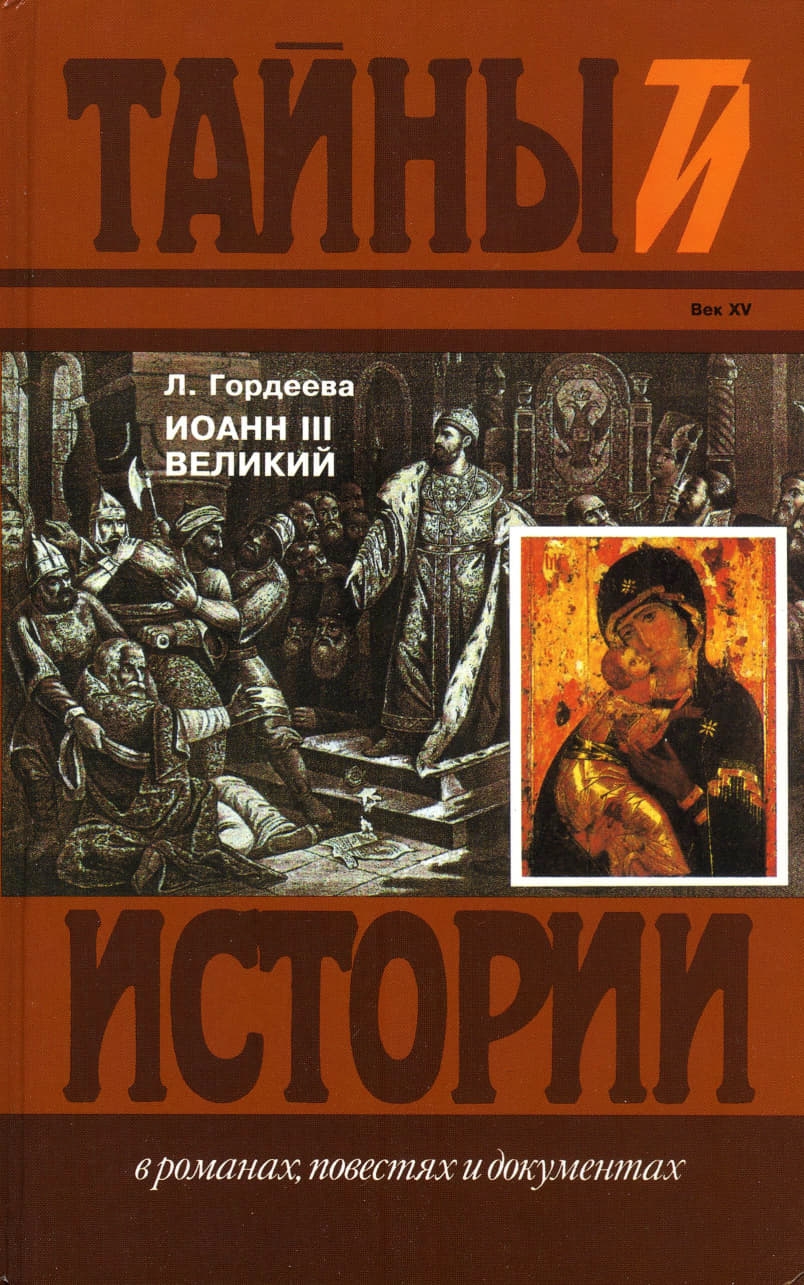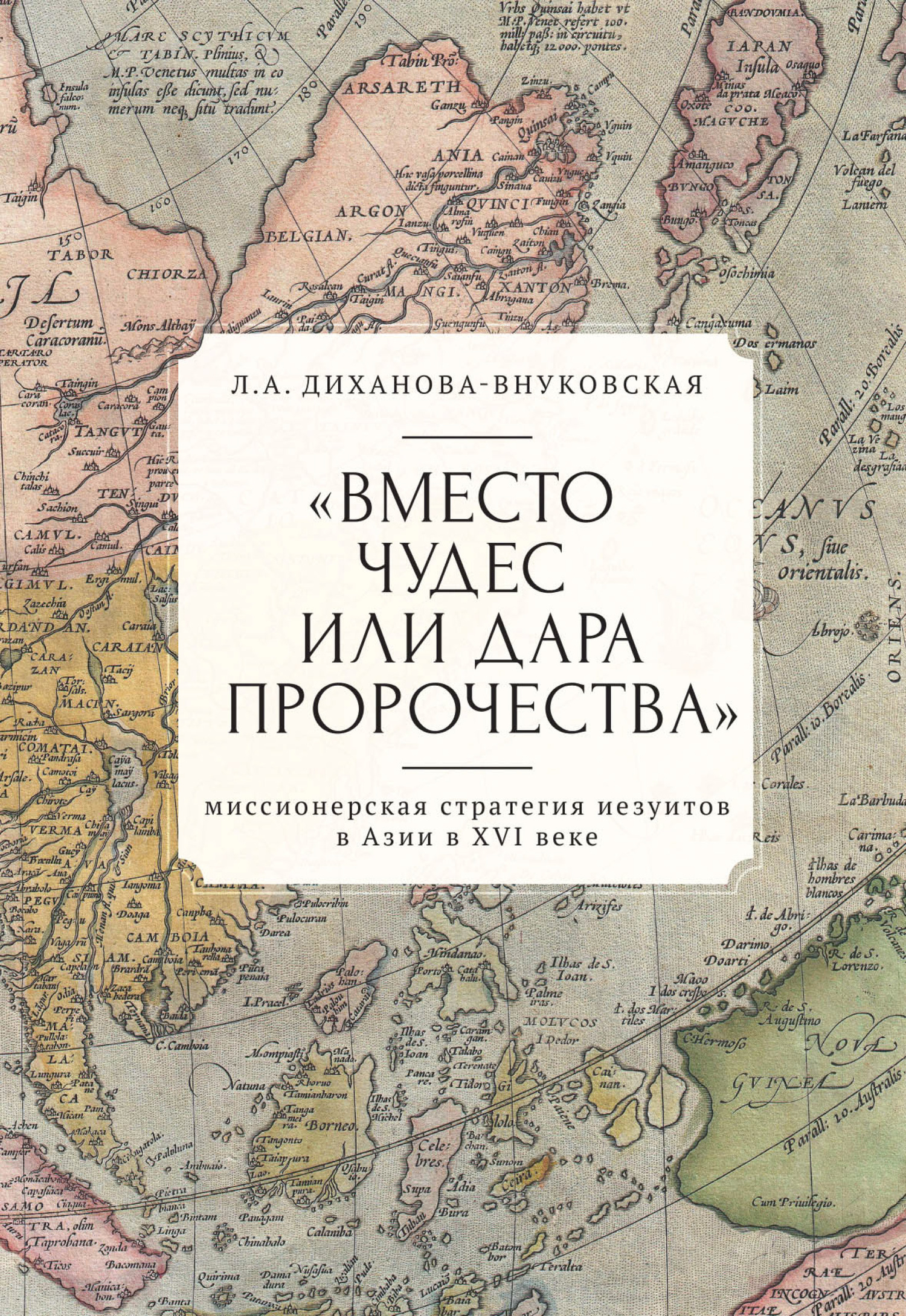Шрифт:
Закладка:
Выдающийся русский историк, яркий публицист и общественный деятель Д. И. Иловайский исследует Смутное время — эпоху интервентов, самозванства, предательств, чудовищных разрушений и мощного патриотического движения, организованного лучшими представителями русских людей. Историк анализирует причины и следствие «адского замысла» против Московского государства, замысла, возникшего и осуществленного в среде враждебной польской и ополяченной западнорусской аристократии, плодом которого явилось самозванство. И хотя от тяжелых последствий Смутного времени Россия излечивалась почти всю первую половину XVII века, автор заключает, что «Москва воздвигала государственное здание прочно и логично и никакие бури и потрясения не могли поколебать его основы». В результате победы русского оружия на историческую сцену выдвигается новая правящая династия — династия Романовых. Книгу сопровождают обширные примечания, которые содержат цитаты и ссылки на документальные материалы, включая русские летописи, государственные указы, письма, а также исторические исследования других авторов.