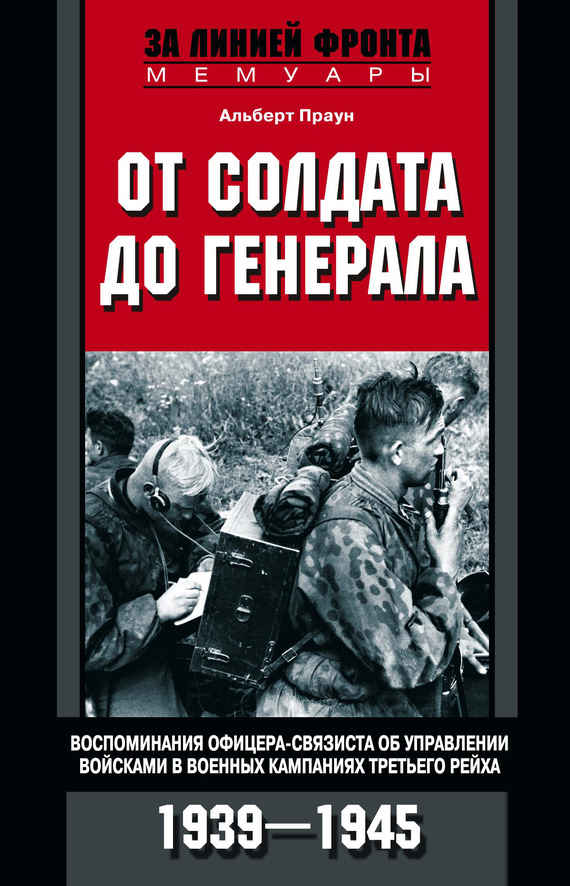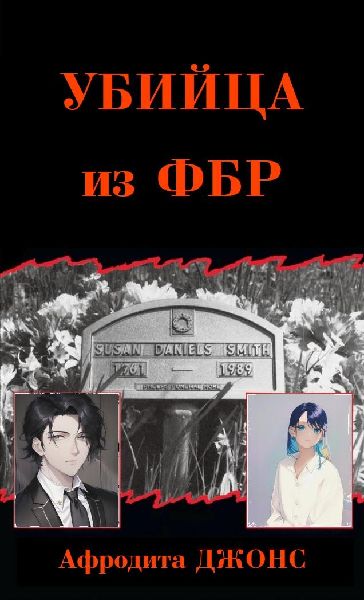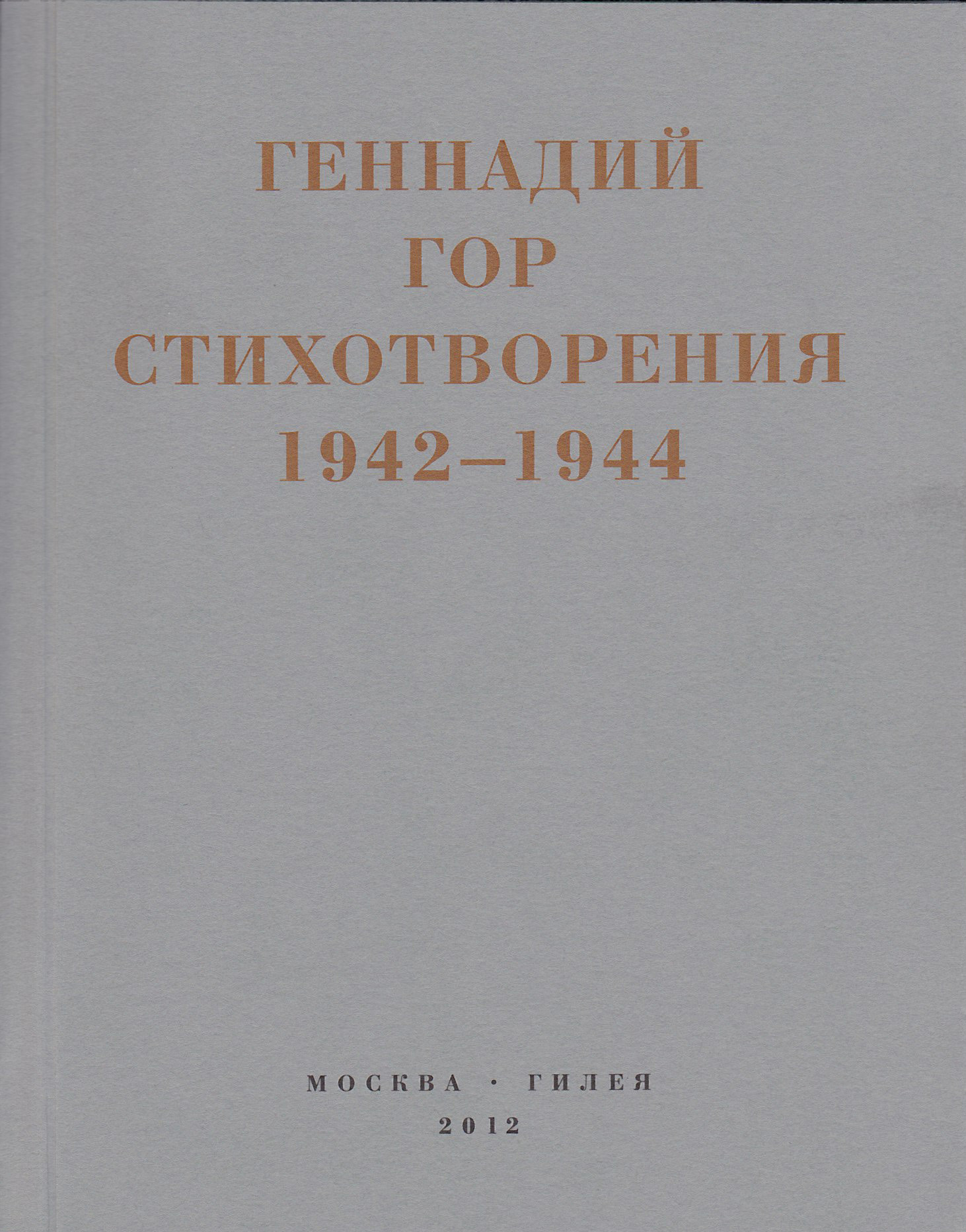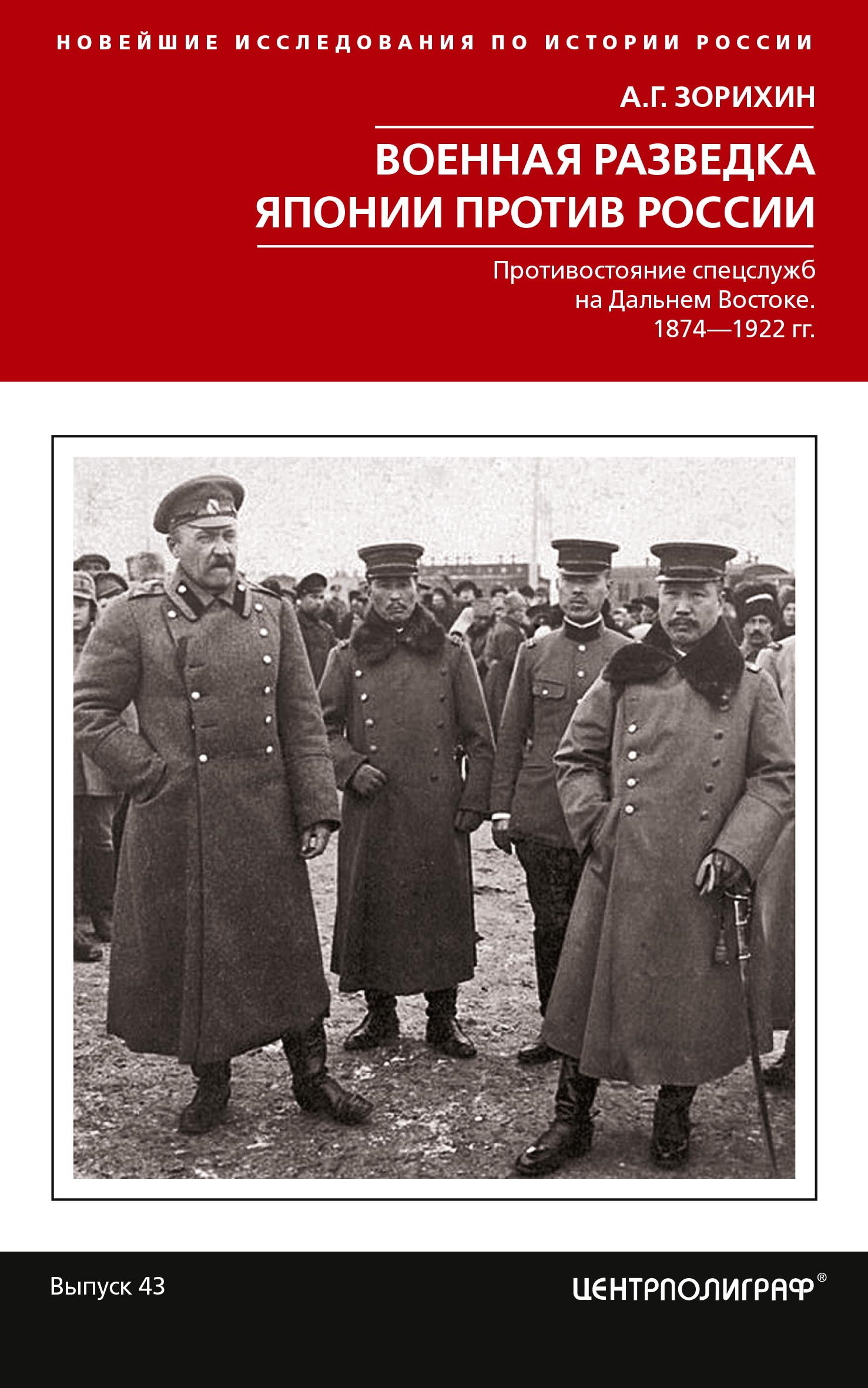Шрифт:
Закладка:
Товарищ пехота - это военный роман Виталия Сергеевича Василевского, в котором он рассказывает о своем опыте службы в советской армии в 1980-х годах. Главный герой - молодой парень Андрей, который по призыву попадает в пехотную часть на Дальнем Востоке. Там он сталкивается с жестокостью и беспределом среди солдат и офицеров, с трудностями и опасностями службы, с дружбой и любовью. Он учится выживать и сражаться, становится настоящим бойцом и командиром. Он проходит через войну в Афганистане, через конфликт на Курильских островах, через распад Советского Союза. Он видит и переживает все то, что составляет историю нашей страны.
Если вы хотите узнать правду о том, как жили и служили советские солдаты, вы должны прочитать эту книгу. Вы можете читать ее онлайн на сайте knizhkionline.com. Там вы найдете не только полный текст романа, но и фотографии и документы, которые подтверждают достоверность повествования. Это книга, которая не оставит вас равнодушными и заставит вас по-новому взглянуть на наше прошлое и настоящее.