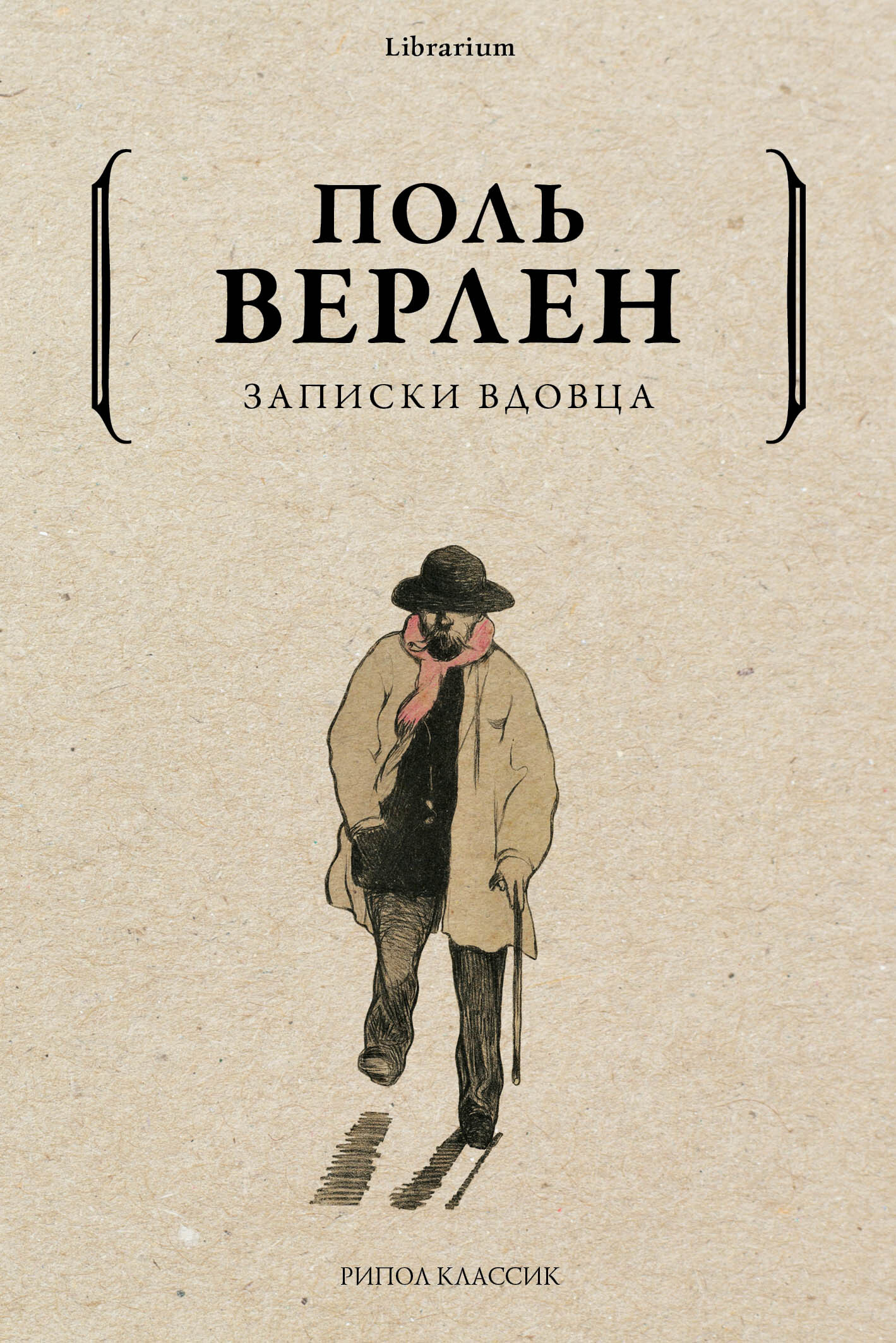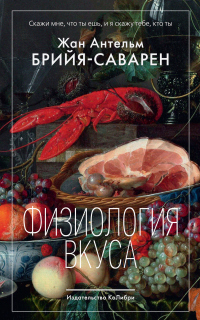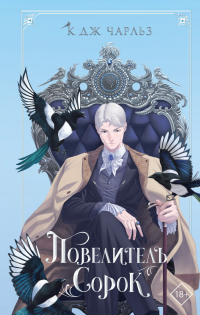Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник вошли прозаический цикл «Записки вдовца» и избранные стихотворения в переводе Ф. Сологуба.В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Поль-Мари Верлен»: