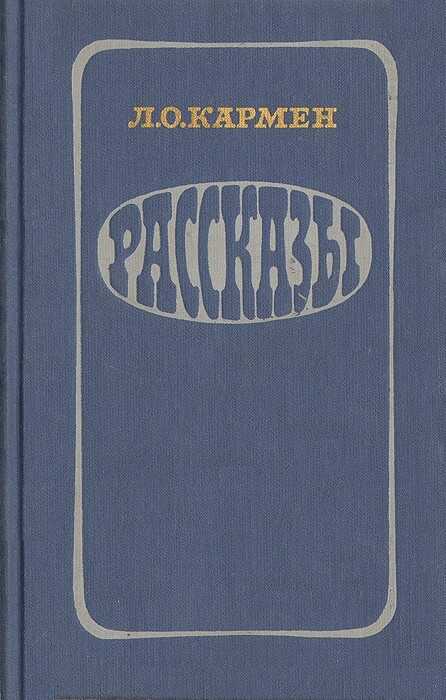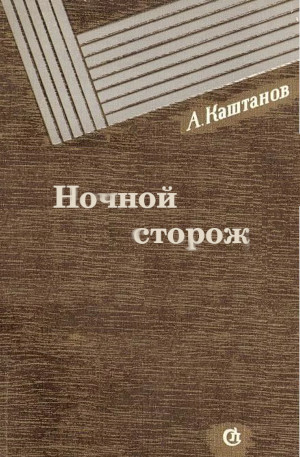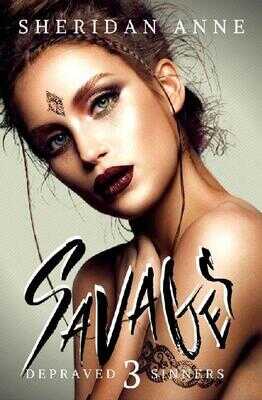Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу включены избранные рассказы русского писателя и журналиста Лазаря Осиповича Кармена (1876–1920) из циклов: «Дикари», «Дети-глухари», «Рассказы о пятом годе» и др., посвященные, в основном, жизни бедного одесского люда — портовых рабочих, обитателей ночлежек и т. д.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лазарь Осипович Кармен»: