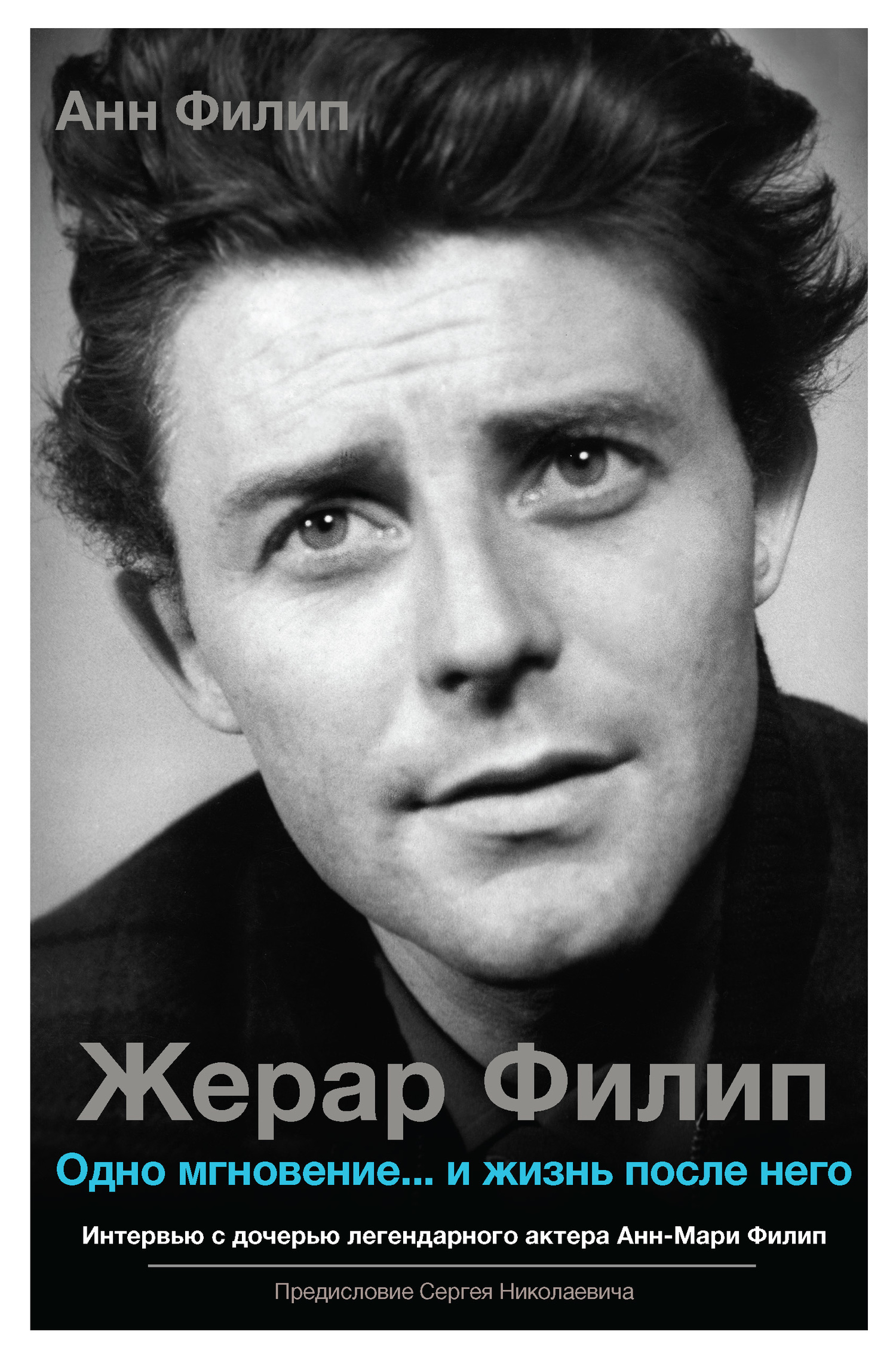Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
1886 год. Дело крупных судовладельцев Карстен идет в гору, но несмотря на коммерческие успехи, в семье не все ладно. Есть свои страсти и тайны, которые могут помешать семейному бизнесу.Однажды во время крещения нового корабля Лили Карстен знакомится с Йоханом Болтоном, выходцем из низов. Болтон показывает ей мир, которого она не знала, где идет ежедневная борьба за выживание. Лили понимает, что труд этих людей обеспечивает благополучие ее семьи. Вскоре Лили сама становится пешкой в чужой игре ради интересов семейного дела. К тому же у Йохана есть секрет, который Лили никогда не должна узнать. Смогут ли они быть вместе или Лили поставит интересы семьи выше любви?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мириам Георг»: