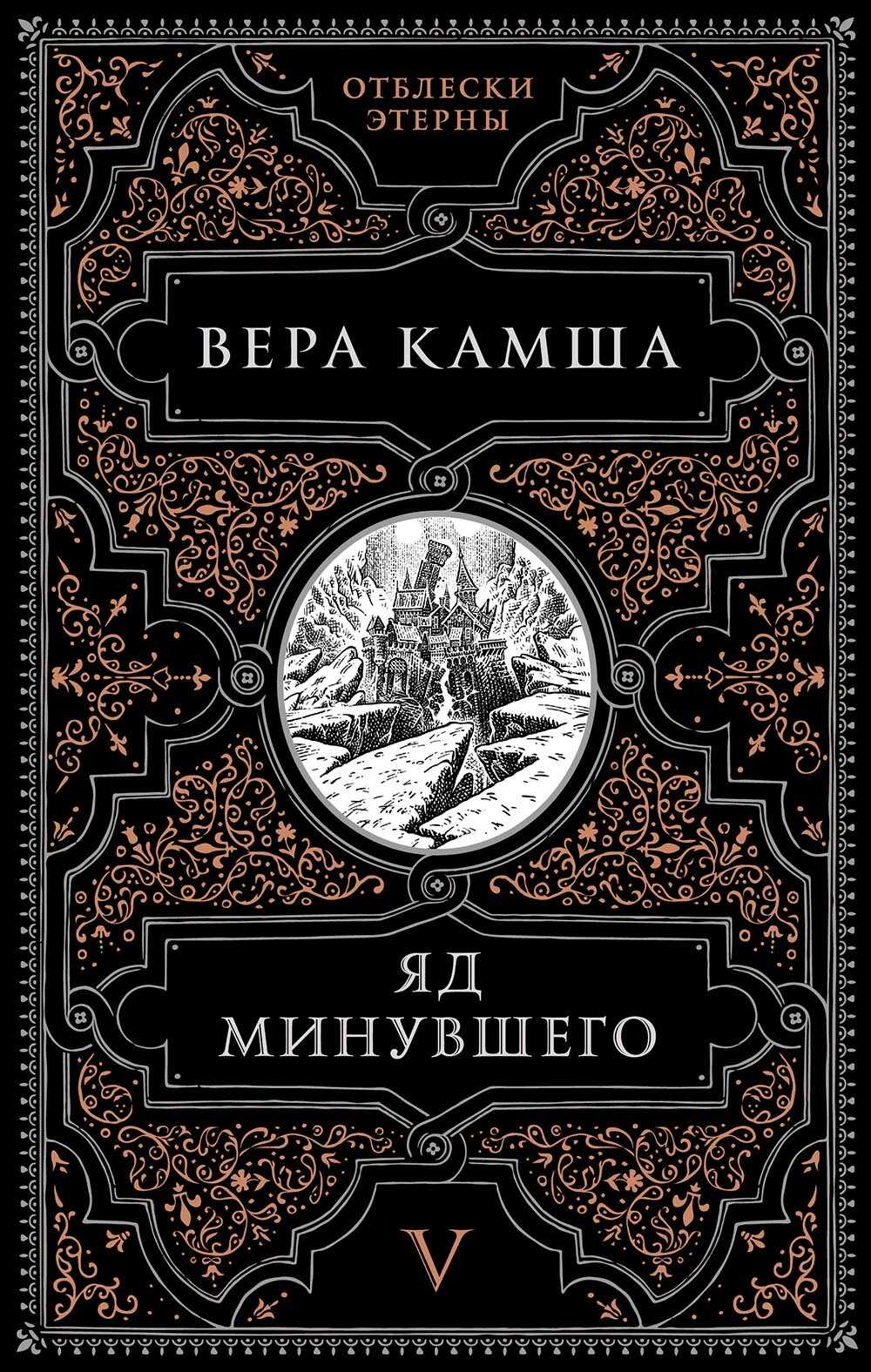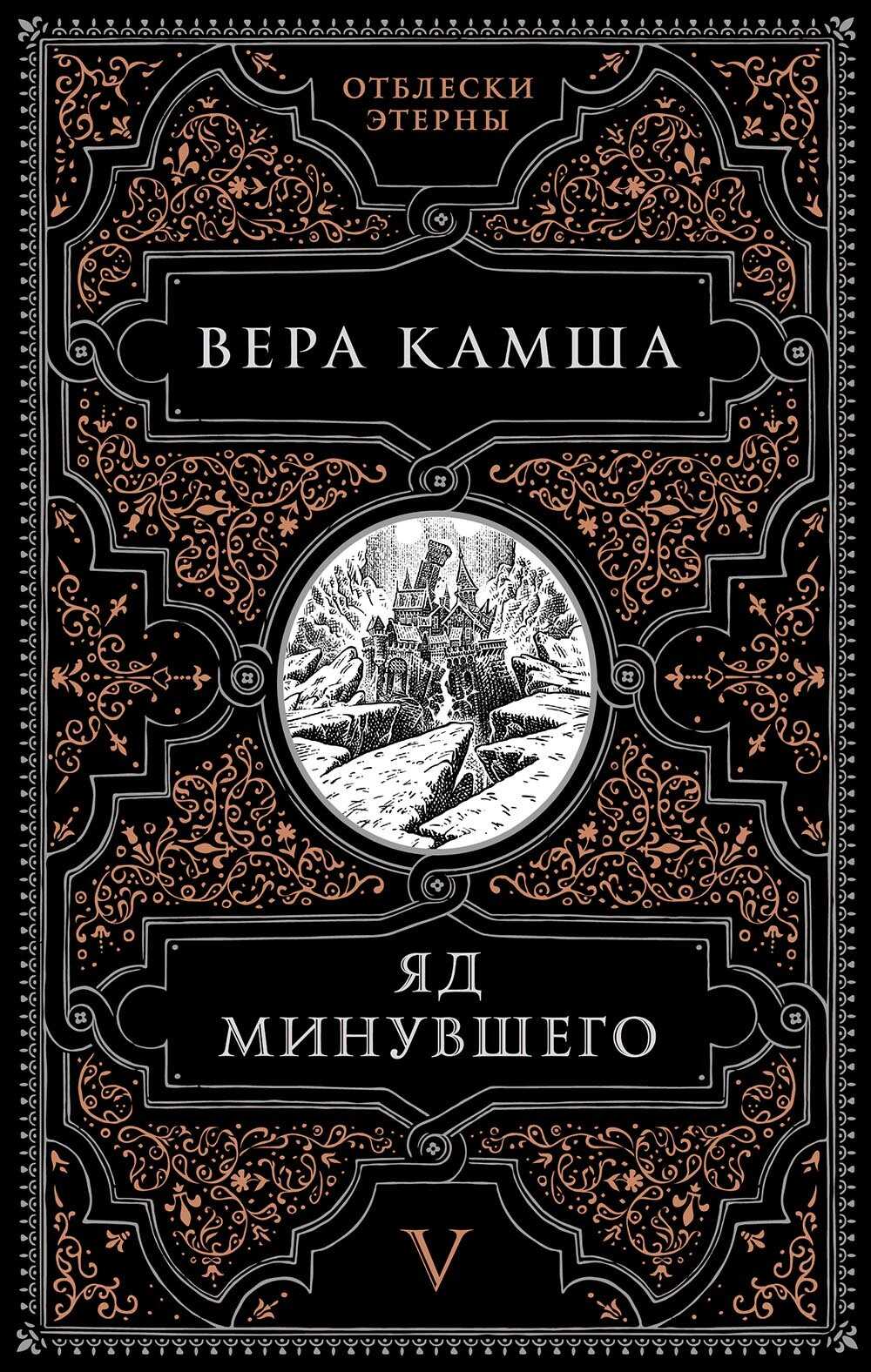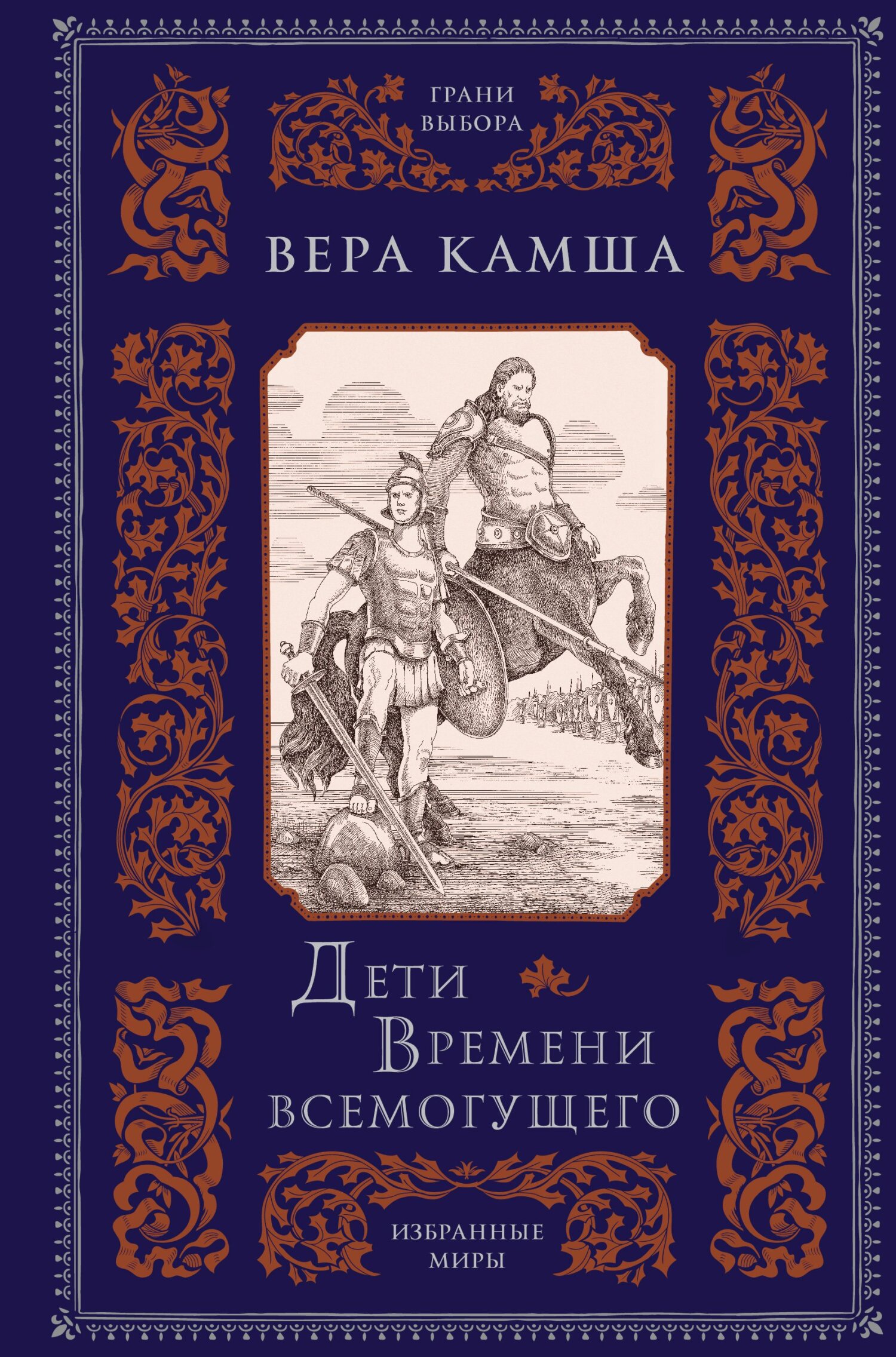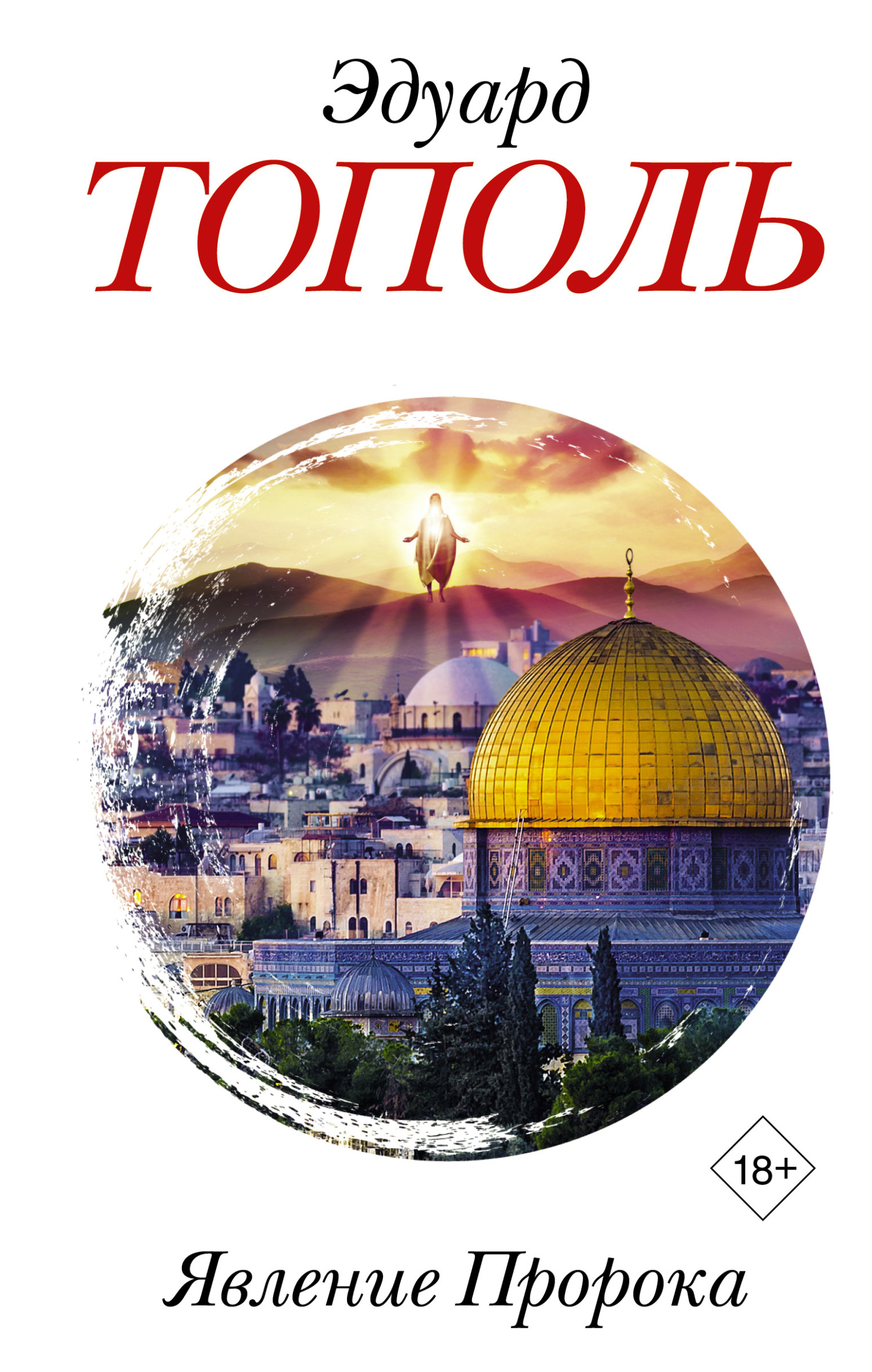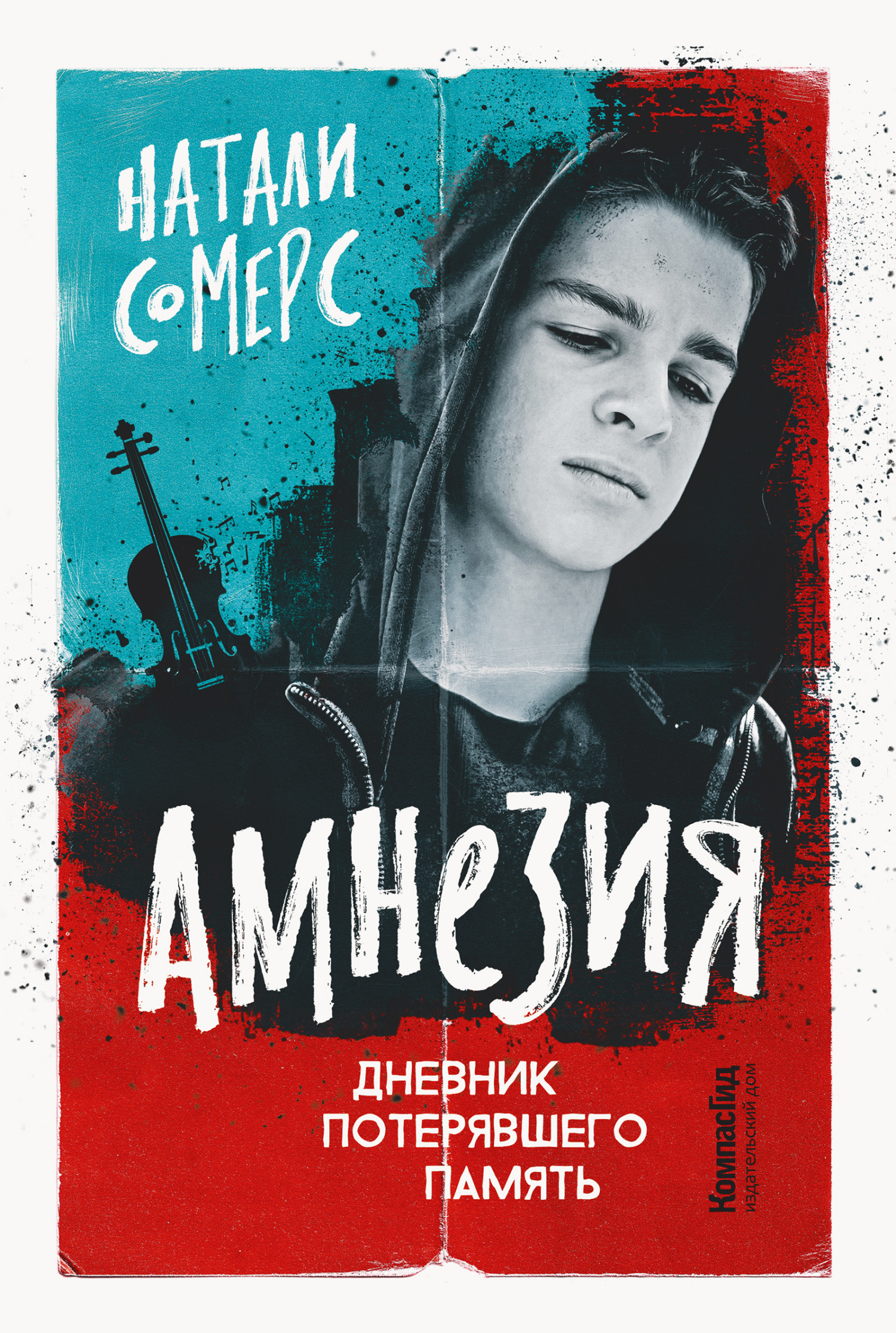Шрифт:
Закладка:
Дети Времени всемогущего - это фэнтезийный роман о мире, где время - это живое существо, которое может дарить или отнимать жизнь, силу и мудрость. Главные герои, Артем и Лиана, - это дети Времени, которые обладают особыми способностями и миссией. Они должны защищать мир от тех, кто хочет управлять временем и использовать его в своих корыстных целях. Но на их пути встают многие препятствия и опасности. Они сталкиваются с врагами, которые хотят убить их или заставить их служить своим интересам. Они попадают в разные эпохи истории, где им приходится выживать и адаптироваться к незнакомым условиям. Они теряют своих друзей и находят новых союзников. Они узнают много тайн и загадок о своем происхождении и своем предназначении. Они любят друг друга и борются за свое счастье.
Дети Времени всемогущего - это роман о том, как важно ценить каждый момент жизни и не поддаваться на соблазны власти и богатства. Это роман о том, как сильна любовь, которая может преодолеть все преграды и испытания. Это роман о том, как сложно быть Детьми Времени, которые несут на своих плечах ответственность за судьбу мира. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и узнать, какие приключения ждут Артема и Лиану в их путешествии по времени.