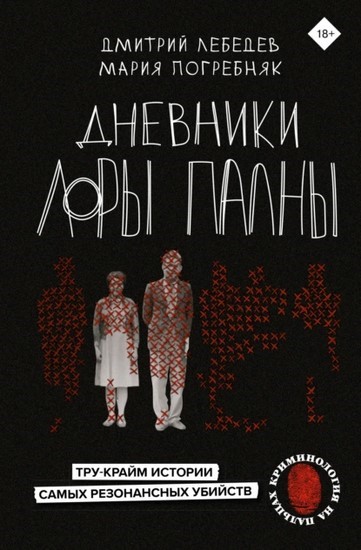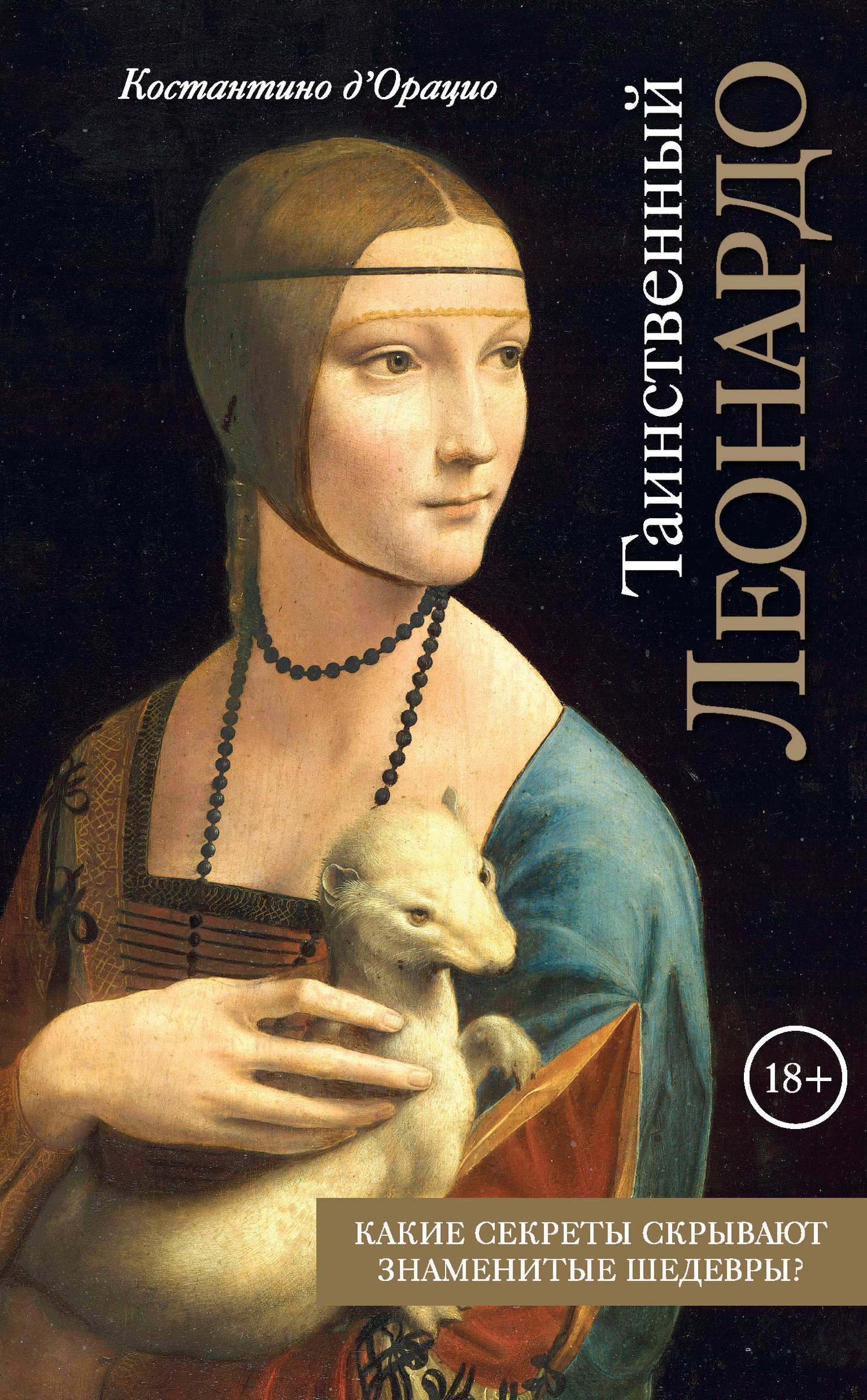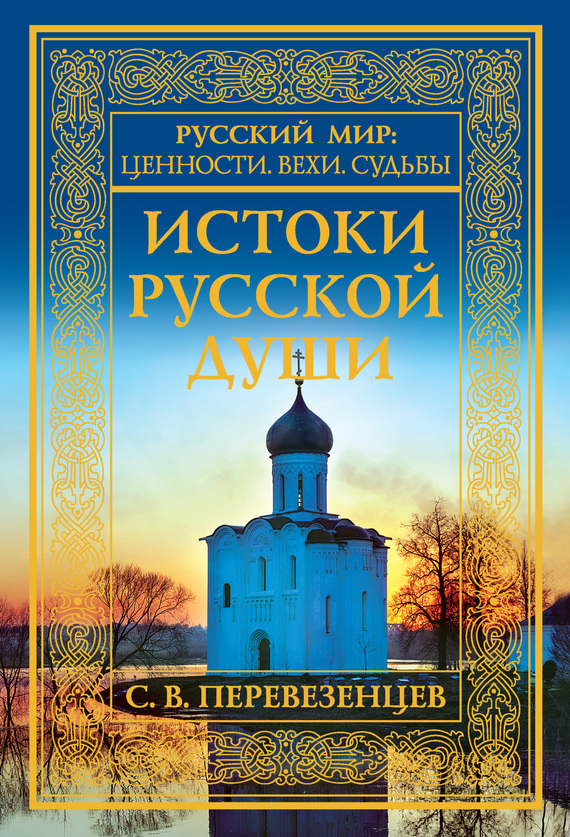Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Пётр Анисимович, главный редактор издательства, фасад которого выходит кто знает куда, – читает в рукописи, неизвестно откуда попавшей на редакторский стол: "Ведь сказано же, не шутя, что рукописи не горят. И ещё сказано: "Читайте, всему своё время, ибо ни одна йота и ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё". Комфортного чтения, мой читатель!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Юрьевич Угрюмов»: