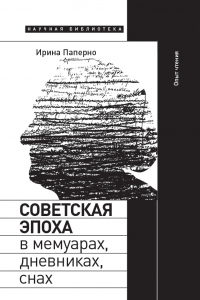Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Алан всегда хотел пойти по стопам своего отца и стать объездчиком диких лошадей. Но в шесть лет коварная болезнь полиомиелит поставила крест на его мечте. Бесконечные больницы, обследования и неутешительный диагноз врачей – он никогда больше не сможет ходить, не то что держаться в седле. Для всех жителей их небольшого австралийского городка это прозвучало как приговор. Для всех, кроме самого Алана.Он решает, что ничто не помешает ему вести нормальную мальчишескую жизнь: охотиться на кроликов, лазать по деревьям, драться с одноклассниками, плавать. Быть со всеми на равных, пусть даже на костылях. С каждым новым достижением Алан поднимает планку все выше и верит, что однажды сможет совершить и самое невероятное – научиться ездить верхом и стать писателем.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алан Маршалл»: