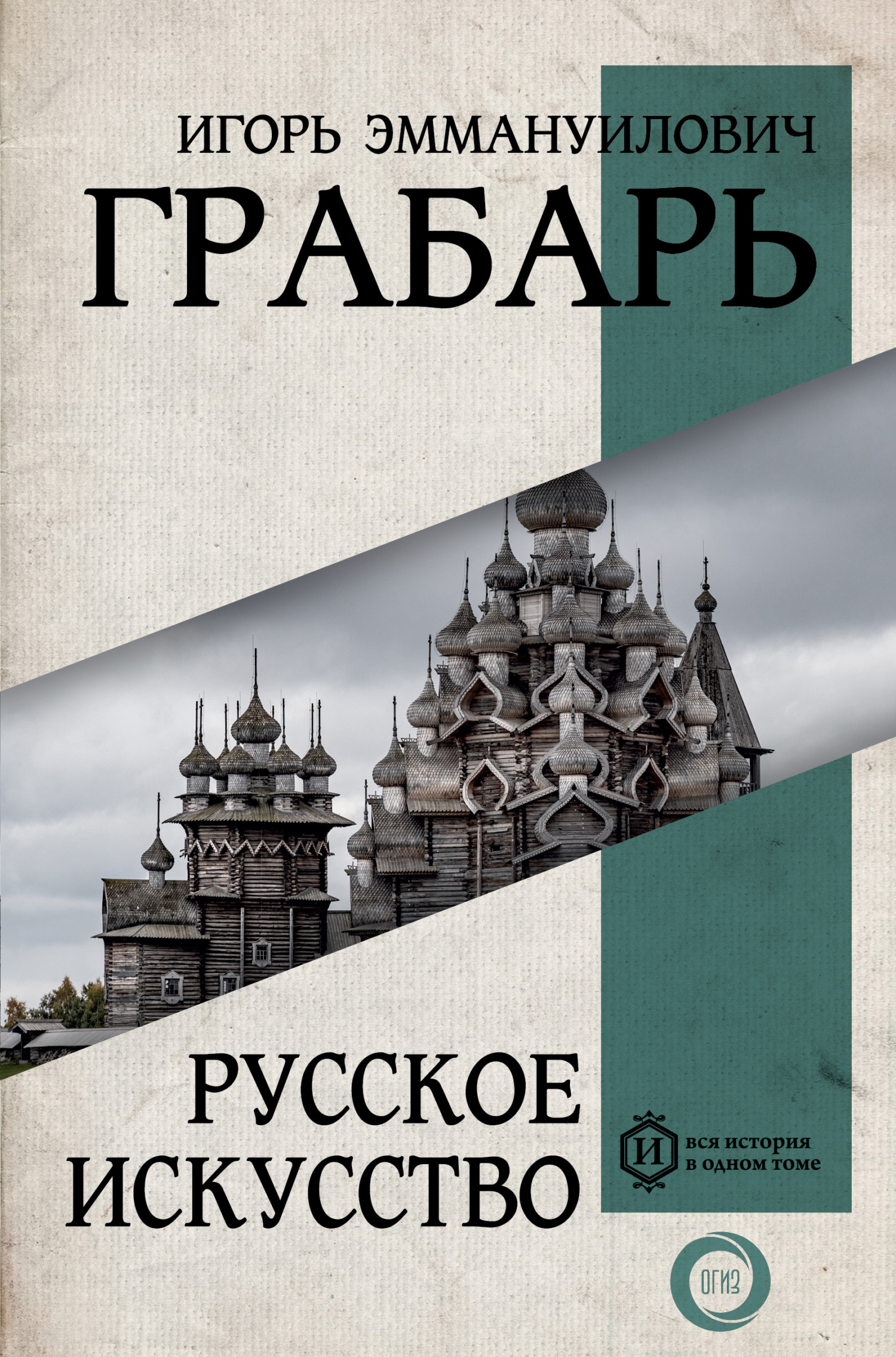Шрифт:
Закладка:
Один из самых крупных писателей «второй волны» эмиграции Борис Николаевич Ширяев (Москва, 1889 – Сан-Ремо, 1959), автор знаменитого свидетельства о Соловецком лагере, книги «Неугасимая лампада», являлся также плодовитым историком литературы и литературным критиком. В настоящем издании впервые и максимально полно собраны его статьи по литературе и рецензии, отображающие как художественные вкусы и политические убеждения автора, так и детальную панораму русской литературы – классической, а затем эмигрантской и «подсоветской» – середины прошлого века. Тексты, собранные из труднодоступной эмигрантской периодики, издаются впервые в России и сопровождены научным комментарием и библиографией, а также биобиблиографическим словарем литераторов эмигрантов.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.