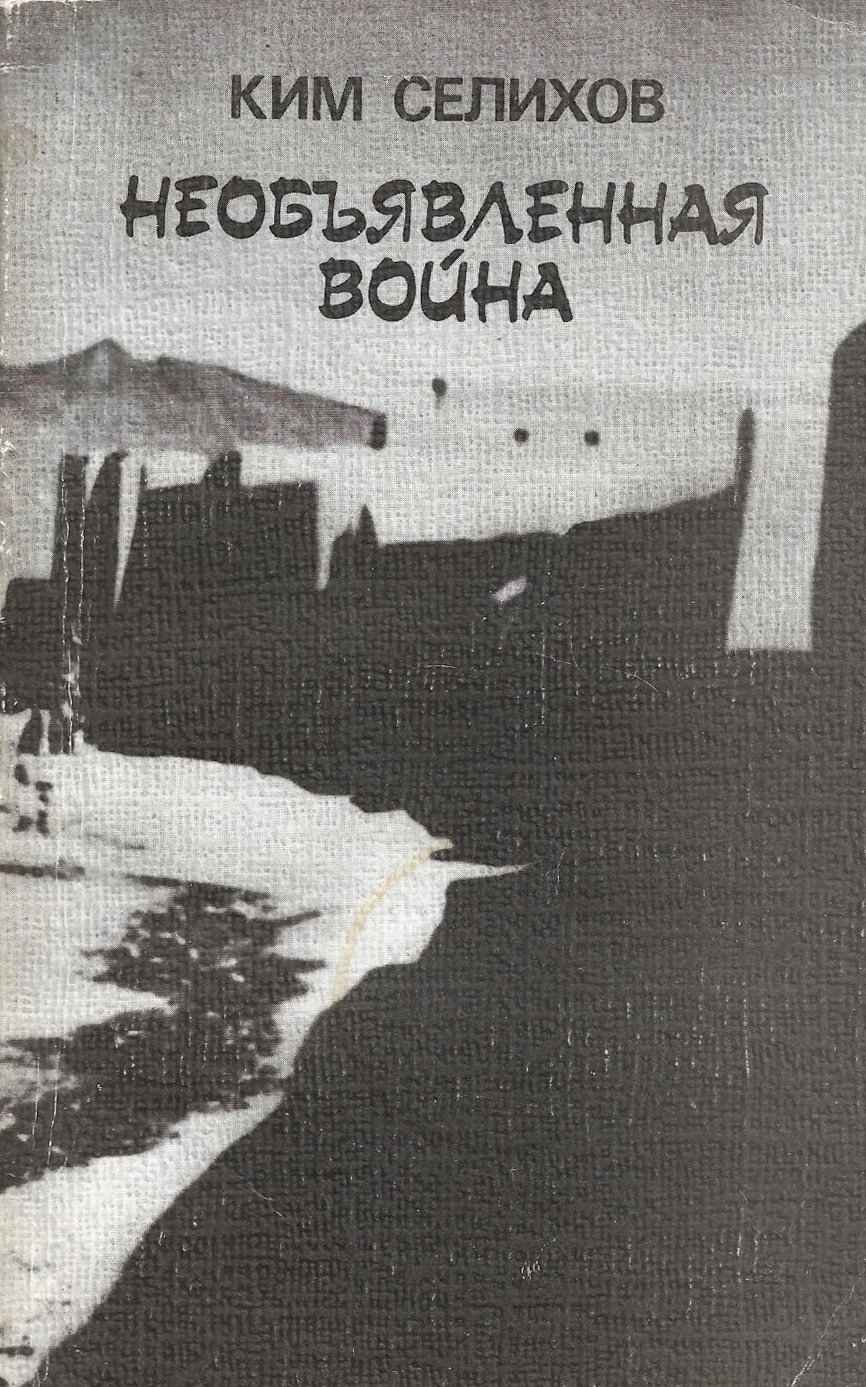Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книге рассказывается о революционных событиях в Демократической Республике Афганистан. Автор продолжительное время находился в этой стране и был свидетелем борьбы ее свободолюбивого народа против происков контрреволюции, направляемых американскими империалистами. Герой-повествователь повести Салех - один из героев Апрельской революции, узник аминовской тюрьмы, - разведчик в стане врагов нового Афганистана. Вместе с ним его друзья, соратники по борьбе - старый революционер Ахмад, разведчица Гульпача, мулла Хабибулла и другие...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ким Николаевич Селихов»: