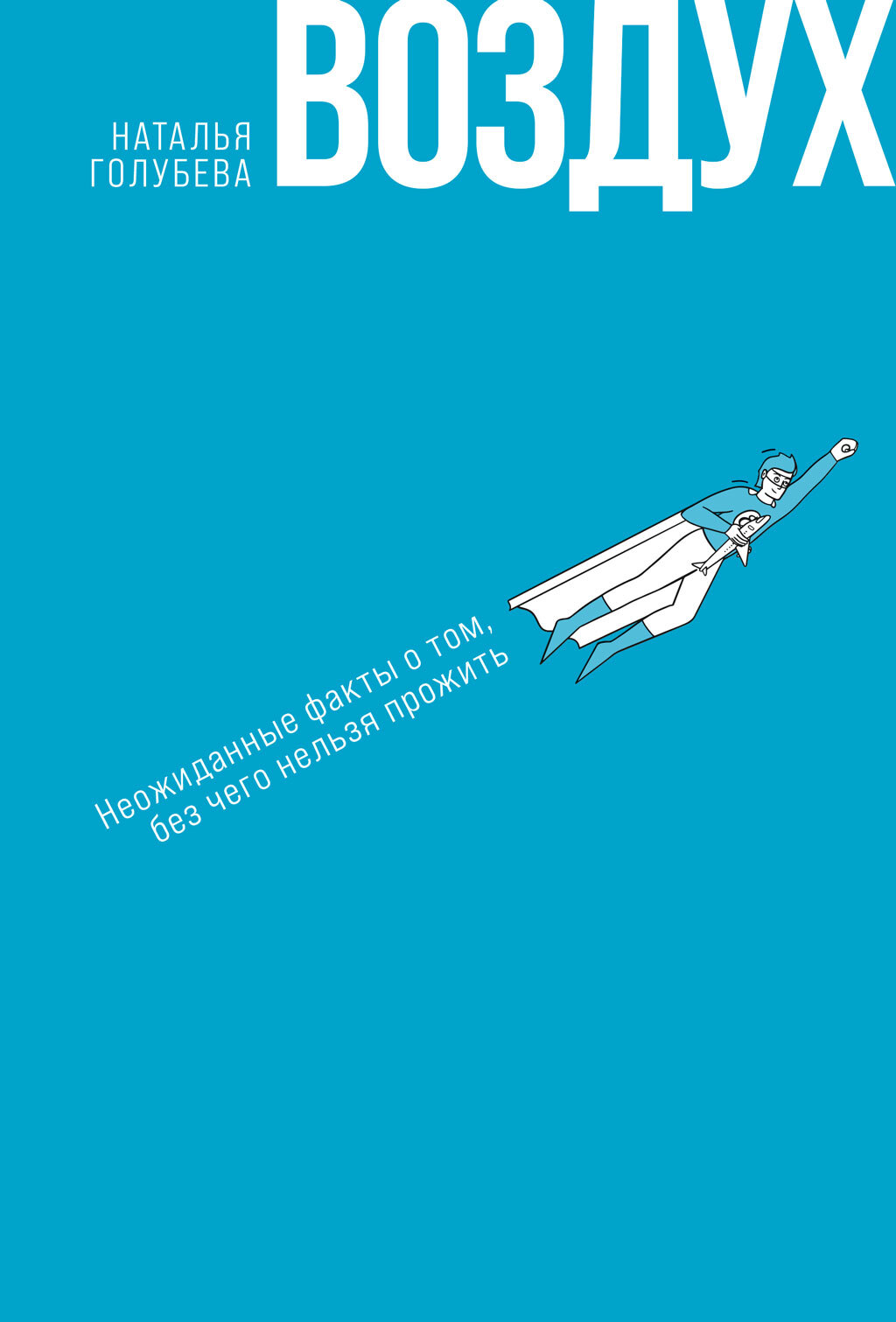Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ночь, проведенная с принцем Райфом, потрясает Касию до глубины души. И он делает ей предложение! Да, она отдала ему свою невинность после того, как он спас ее от смертельной опасности. Да, их взаимное притяжение было очень сильным. Но независимой Касии не нужен муж. Она просто сбежала, думая, что никогда его больше не увидит… Но у Райфа совсем другие планы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Хайди Райс»: