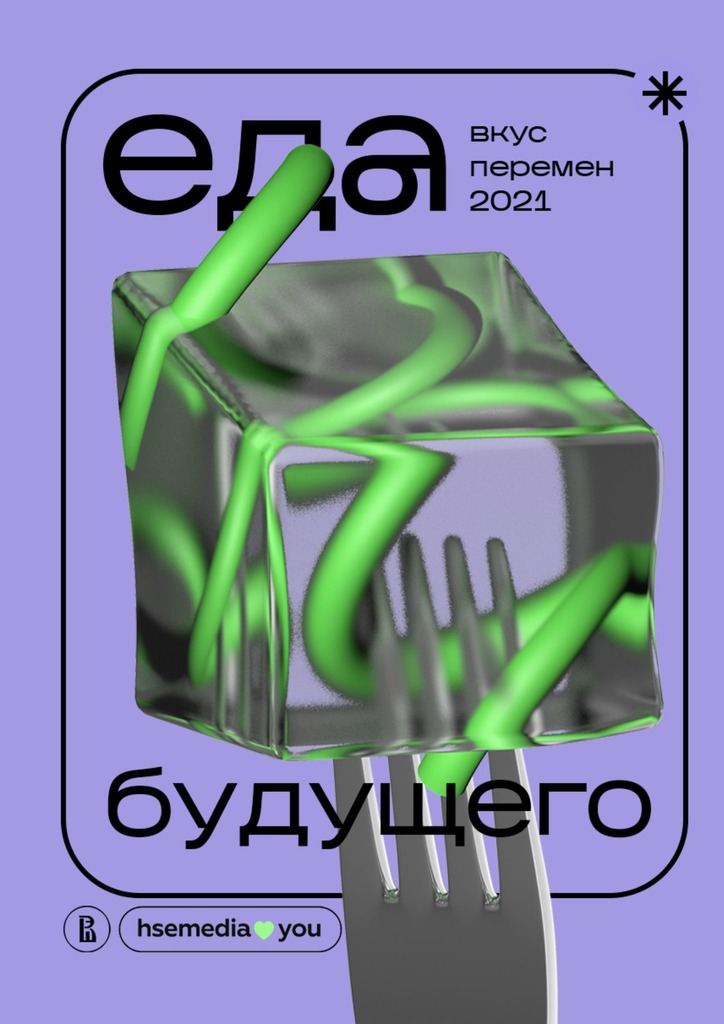Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Рехи родился через три сотни лет после Великого Падения. И с того дня его преследовал голод. Поэтому Рехи просто охотился, не догадываясь, что когда-то эльфы не пили человеческую кровь. Но после череды потрясений пришлось отправиться в долгий путь к Разрушенной Цитадели. По рассказам стариков, именно там скрывалась правда об уничтожении мира. Впрочем, ответы и стремления тонули в неизвестности вечной ночи. Лишь голод оставался понятным и неизменным.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мария Токарева»: