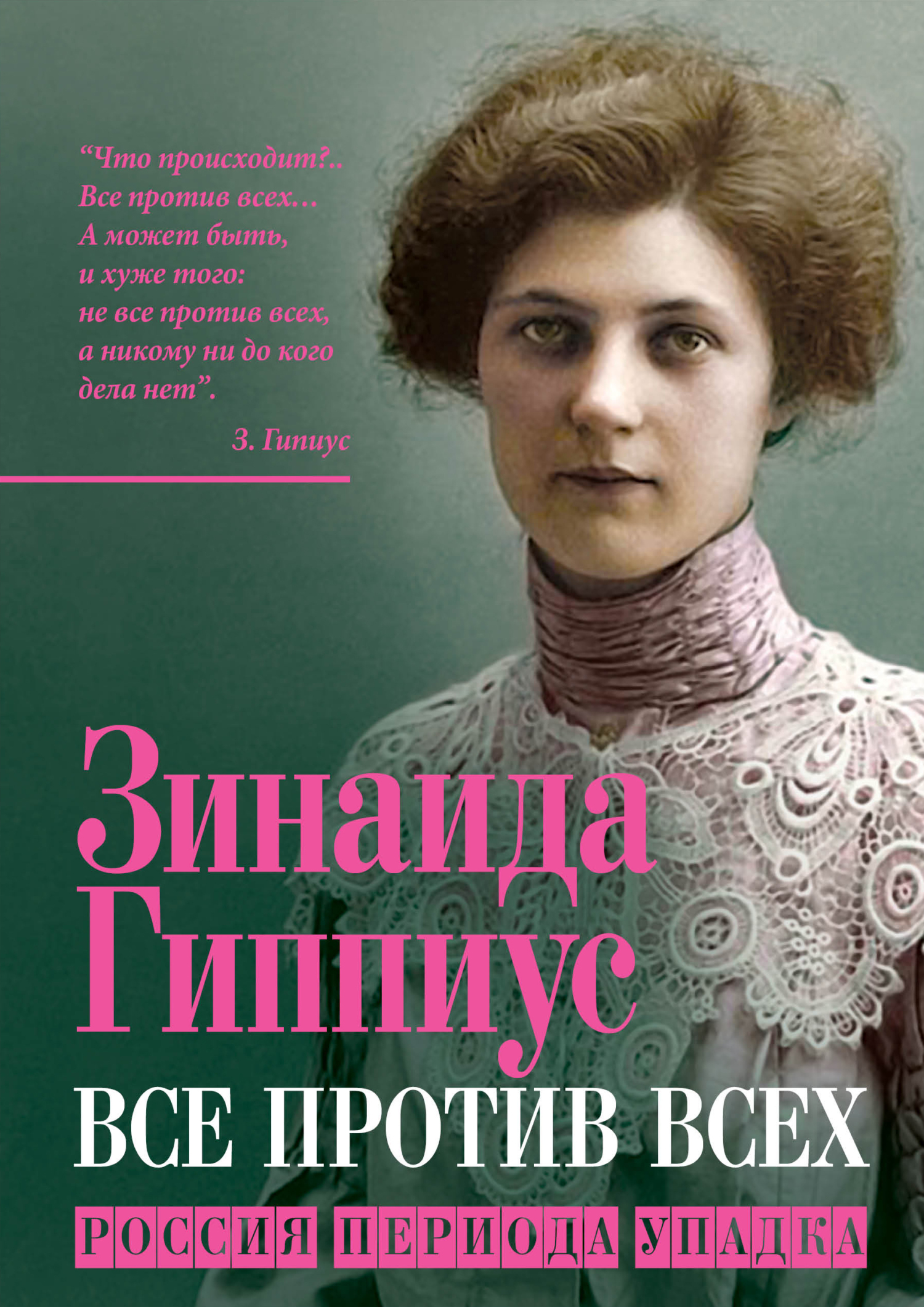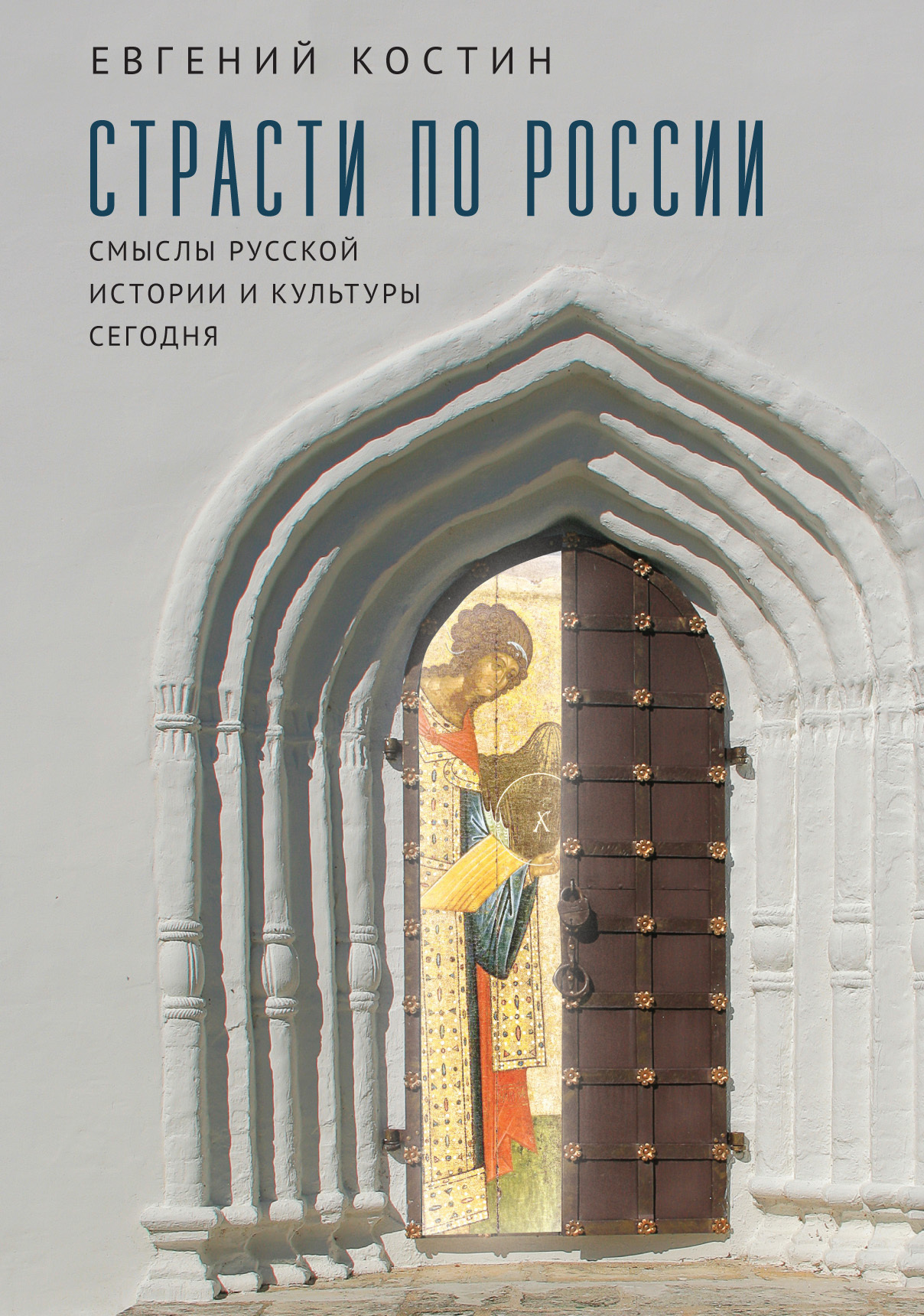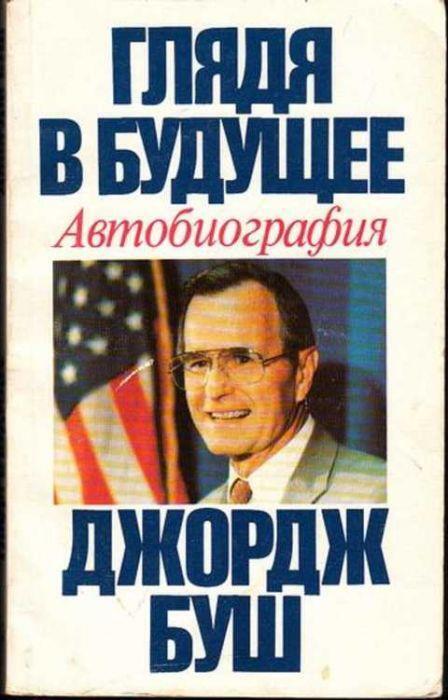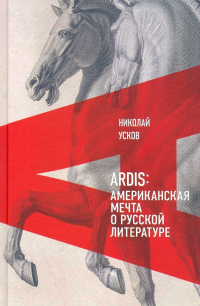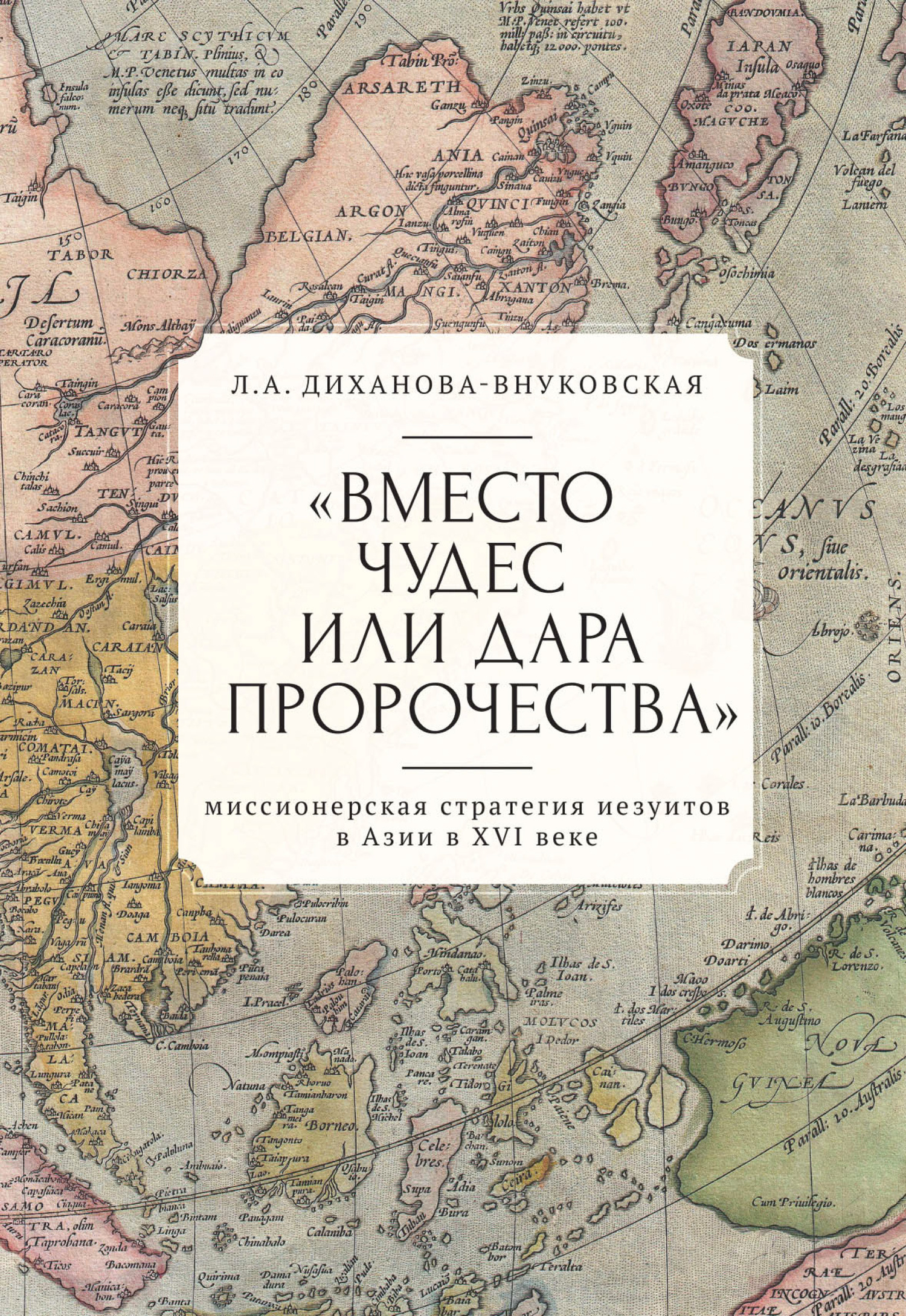Шрифт:
Закладка:
«Разложение у нас существует не там, где его многие ошибочно и с ужасом обнаруживают, – писала Зинаида Гиппиус. – Оно не в народе, но среди тех, кто отделил себя от него, отделил себя от его живой души».Русская писательница, публицист, поэтесса и литературный критик, З.Н. Гиппиус была одной из видных представительниц «Серебряного века». Вместе со своим мужем Д.С. Мережковским она считается идеологом русского символизма.Не ограничиваясь литературой, Зинаида Гиппиус активно участвовала в общественной жизни России. Ей были глубоко чужды самодержавные методы правления, кем бы они ни применялись. «Крик: «Всё позволено» – не идет ли он от самодержавия, которое слишком долго и упрямо утверждало ужасную догму: «Всё позволено… одному». Эта догма должна была породить в едва пробудившихся душах противоположное ощущение: «Если он, один, человек, мы все тоже люди, и если ему дозволено всё, нам тоже всё позволено, всё всем позволено», – отмечала Гиппиус. Отсюда, по ее мнению, происходила страшная болезнь разложения общества, когда все начинали выступать против всех, «или хуже того: не все против всех, а никому ни до кого дела нет».В книге представлены лучшие статьи З.Н. Гиппиус, посвященные общественной жизни и литературе России.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.