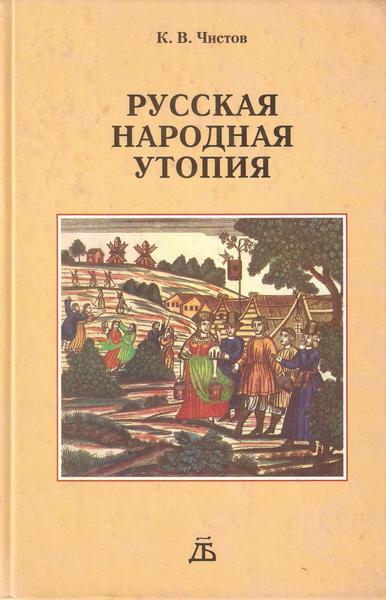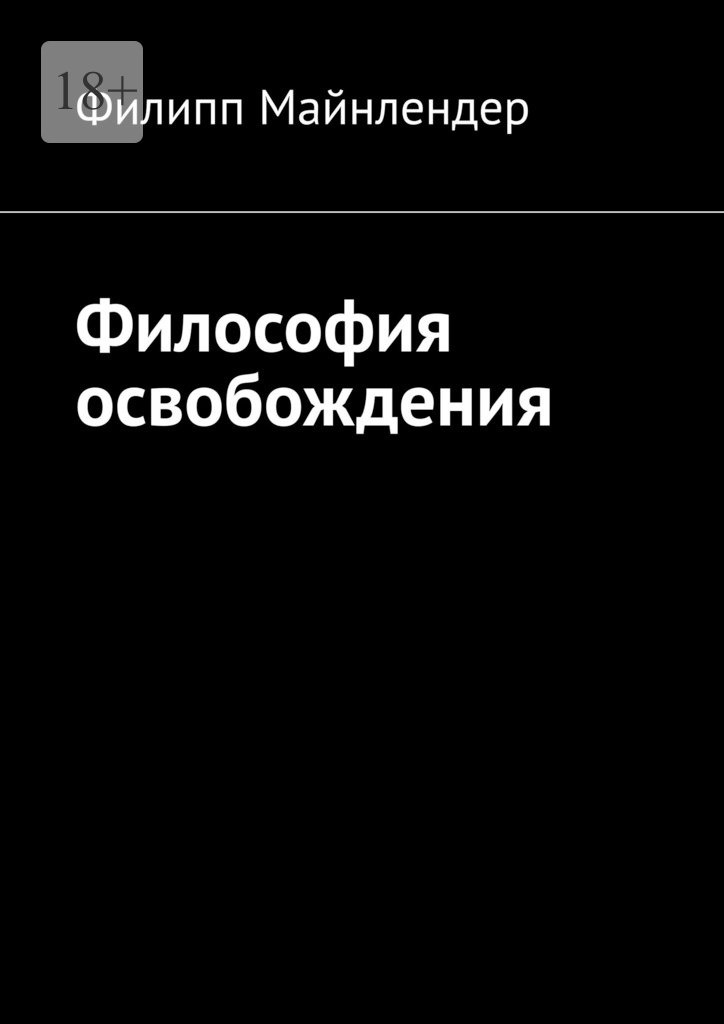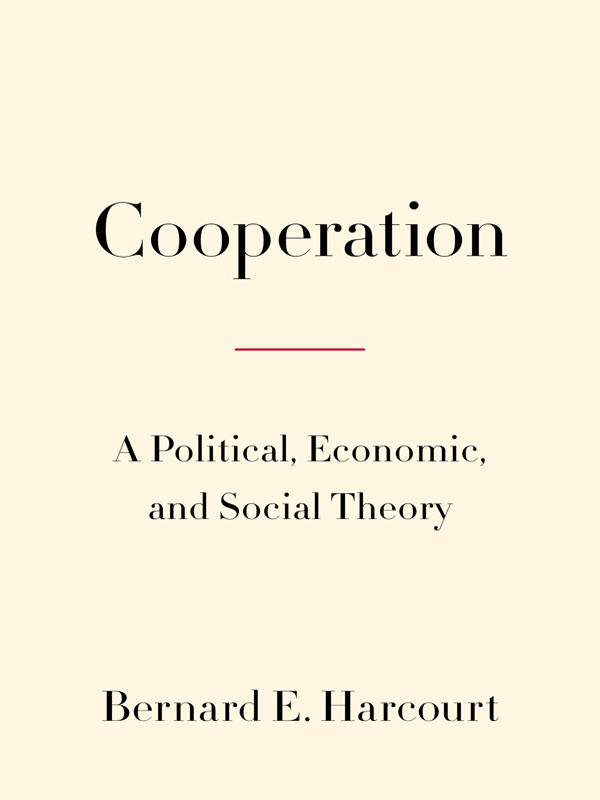Шрифт:
Закладка:
Одной из нераскрытых до конца тайн прошедшего века остается возникновение и деятельность международной организации коммунистов — Коминтерна, который стремился к радикальному переустройству привычной жизни во всемирном масштабе. Инструментом достижения амбициозной цели выступали пролетарские массы всех стран, которым обещали наступление «царства божьего на Земле». Эмиссары Коминтерна вели свою подпольную работу во всех странах мира, там возникали ячейки компартий, которые готовились к вооруженному захвату власти. Несмотря на многообразие условий, объединяющим стержнем их борьбы являлась верность «русскому примеру» — опыту большевиков, утвердивших свою диктатуру в ходе Российской революции. Коминтерн был создан в Москве и на протяжении всего своего существования не скрывал, что его отцами-основателями являлись лидеры большевистской партии. Без их решающего слова не совершались государственные перевороты и революции, не проводились конгрессы и пленумы, не утверждалась «генеральная линия» политики. Перед читателем пройдет череда лидеров международной организации коммунистов начиная с Ленина и заканчивая Сталиным. Остальные четверо — Радек, Зиновьев, Троцкий и Бухарин — стали жертвами Большого террора и надолго были стерты из нашей исторической памяти. Реальный вклад каждого из шестерых в дело «мировой революции пролетариата» впервые раскрывается в книге, опирающейся на уникальное архивное наследие Коммунистического Интернационала.