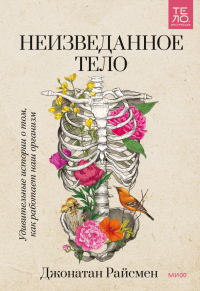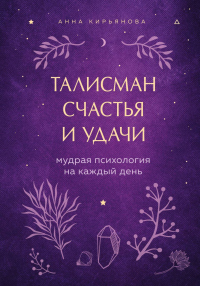Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«О Понимании» – философский трактат, созданный в ранний период творчества В. В. Розанова. Это фундаментальнейший труд абсолютного идеализма. Он находится в неразрывной связи с тенденцией русского философствования и является одним из общих трудов обоснования философии «цельного знания».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Васильевич Розанов»: