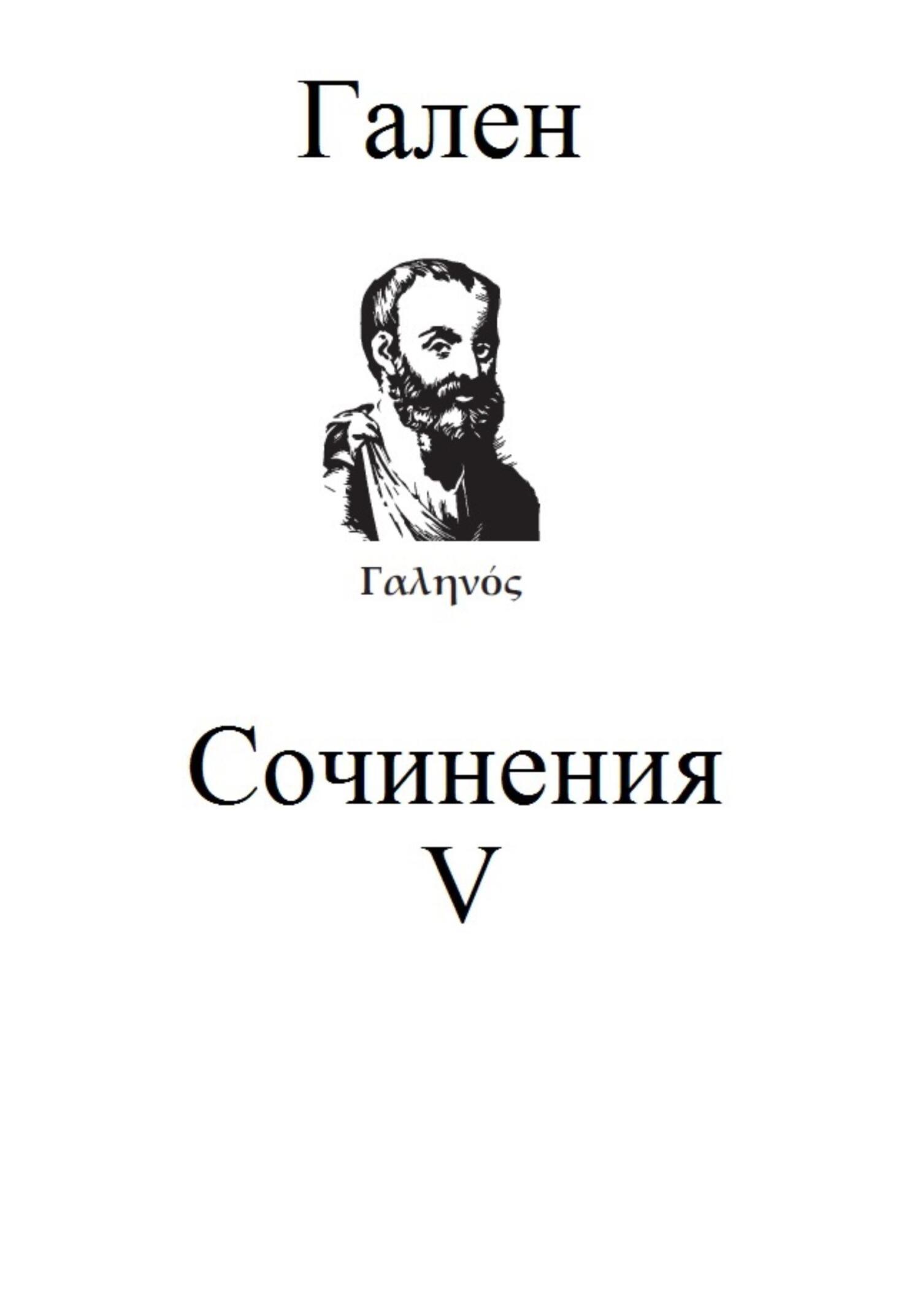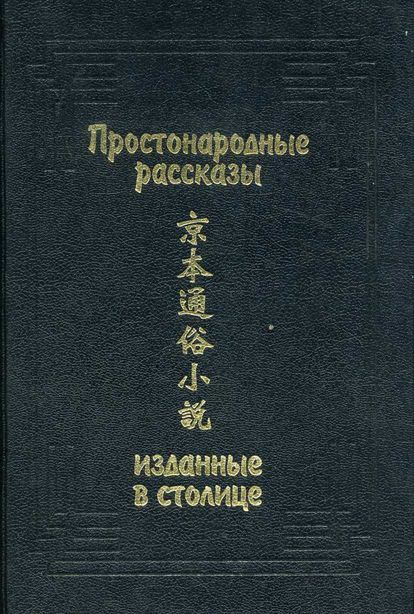Шрифт:
Закладка:
Михаил Иванович Пыляев (1842–1899) родился в Гдове, учился в Санкт-Петербурге, слушал лекции в Харьковском университете, много путешествовал, в том числе по Сибири и Кавказу, по Турции и Египту. В столичных изданиях Михаил Пыляев публиковал статьи по истории театра и балета, обзоры художественных выставок, писал о событиях культурной жизни Санкт-Петербурга. В 1879 году несколько статей о петербургской старине положили начало будущим сборникам «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы» и «Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы», снискавшим автору славу тонкого знатока истории. Для нас сочинения Михаила Пыляева остались зачастую единственным источником фактов, почерпнутых автором из частных архивов, впоследствии утраченных. Но и сами по себе эти чрезвычайно обаятельные повествования, своеобразные путеводители по минувшим дням двух российских столиц, даже более века спустя заслуженно пользуются любовью читателей.