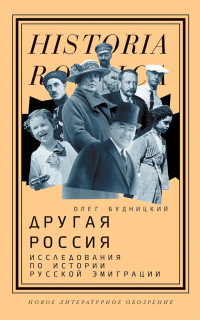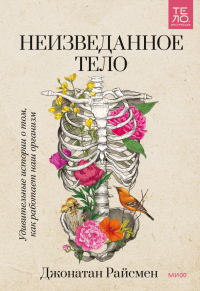Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Вопреки крылатой фразе Жоржа Дантона «Родину нельзя унести с собой на подошвах сапог», русские эмигранты «первой волны» (1918–1940) сумели создать за рубежом «другую Россию». Различные аспекты ее политической и социальной жизни рассматриваются в книге известного специалиста по истории русской эмиграции Олега Будницкого. Один из сюжетов книги — судьба «русских денег» за рубежом: последней части так называемого золота Колчака; финансов императорской фамилии; Петроградской ссудной (серебряной) казны, оказавшейся в руках генерала П. Н. Врангеля и ставшей источником финансирования его армии. В другом разделе автор рассматривает поиски эмигрантами способов преодоления большевизма — от упований на его эволюцию или разложение изнутри до идей перехода к террору. Наиболее обширная часть тома посвящена истории эмиграции в период Второй мировой войны, когда одни исповедовали принцип «против большевиков хоть с чертом», даже если его зовут Адольф Гитлер, а другие уверовали в перерождение советской власти и пытались с ней примириться. В сборник вошли также портреты видных деятелей эмиграции — дипломатов, адвокатов, предпринимателей, писателей. Включенные в книгу исследования основаны преимущественно на материалах зарубежных архивов. Олег Будницкий — профессор факультета гуманитарных наук, директор Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Олег Будницкий»: