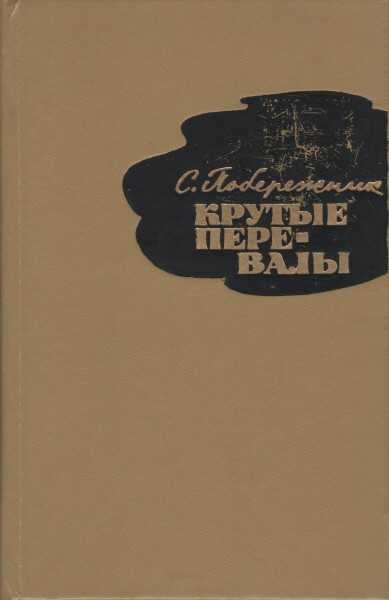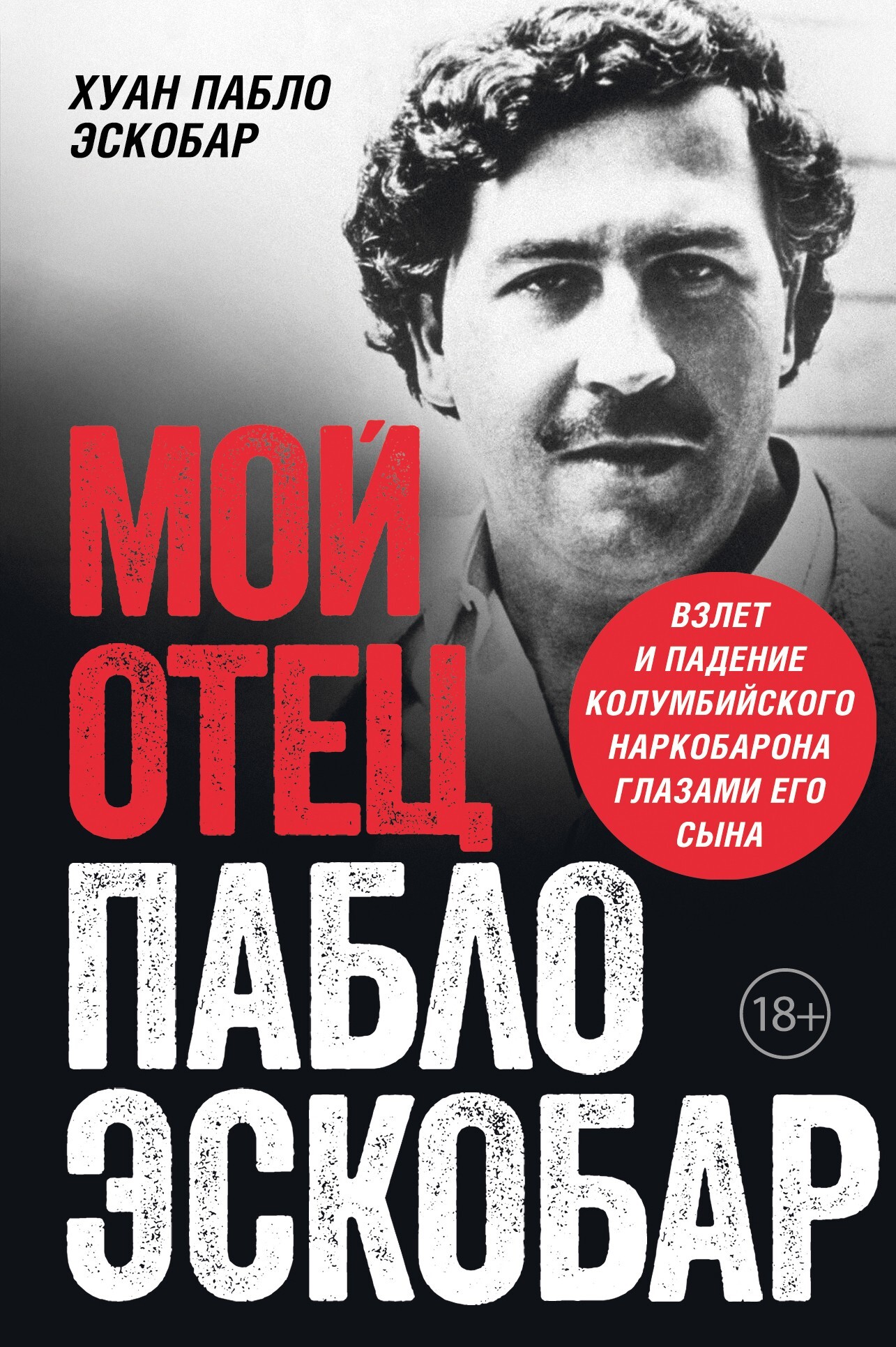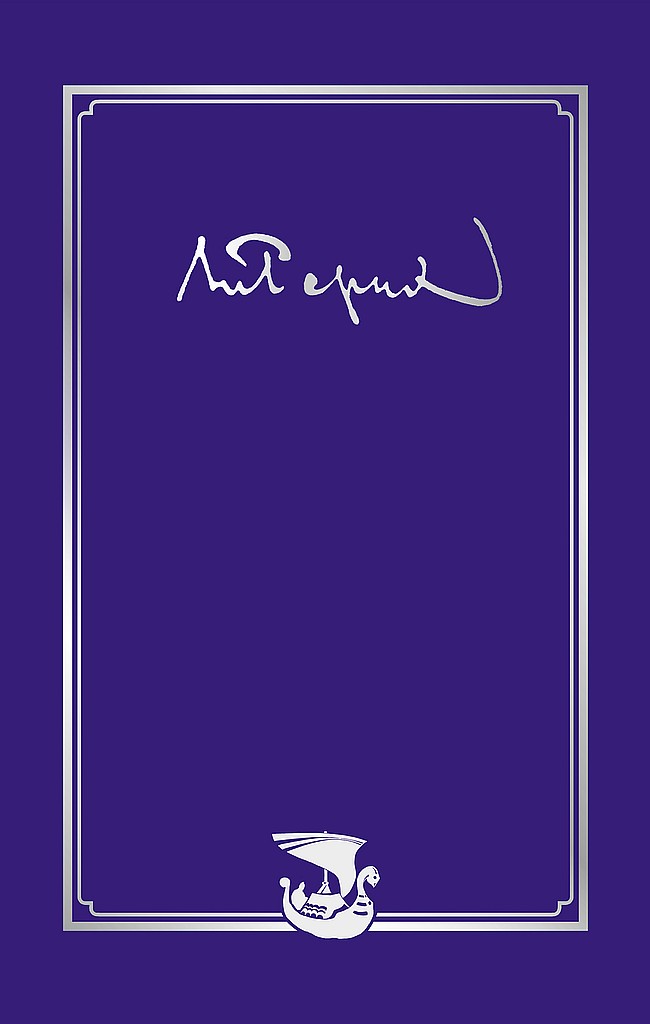Шрифт:
Закладка:
Книга воспоминаний человека, прожившего сложную и нелегкую жизнь.В молодости Побережник уехал из Бессарабии, оккупированной боярской Румынией, в Канаду, затем в США. В полной мере он вкусил «прелести» американского образа жизни и американской «демократии».Плавал на бельгийском пароходе матросом, работал в порту Антверпена, где вступил в ряды Бельгийской компартии. Воевал в числе других добровольцев в Испании в годы фашистского мятежа. Перед Великой Отечественной войной С. Побережник из царской Болгарии, которую Гитлер рассматривал как плацдарм для нападения на СССР, передавал в Центр ценнейшие сведения. Вся жизнь С. Побережника — образец патриотизма, пример мужества и отваги в борьбе с врагами нашей Родины, с фашизмом.Литературная запись В. Э. Баумштейна