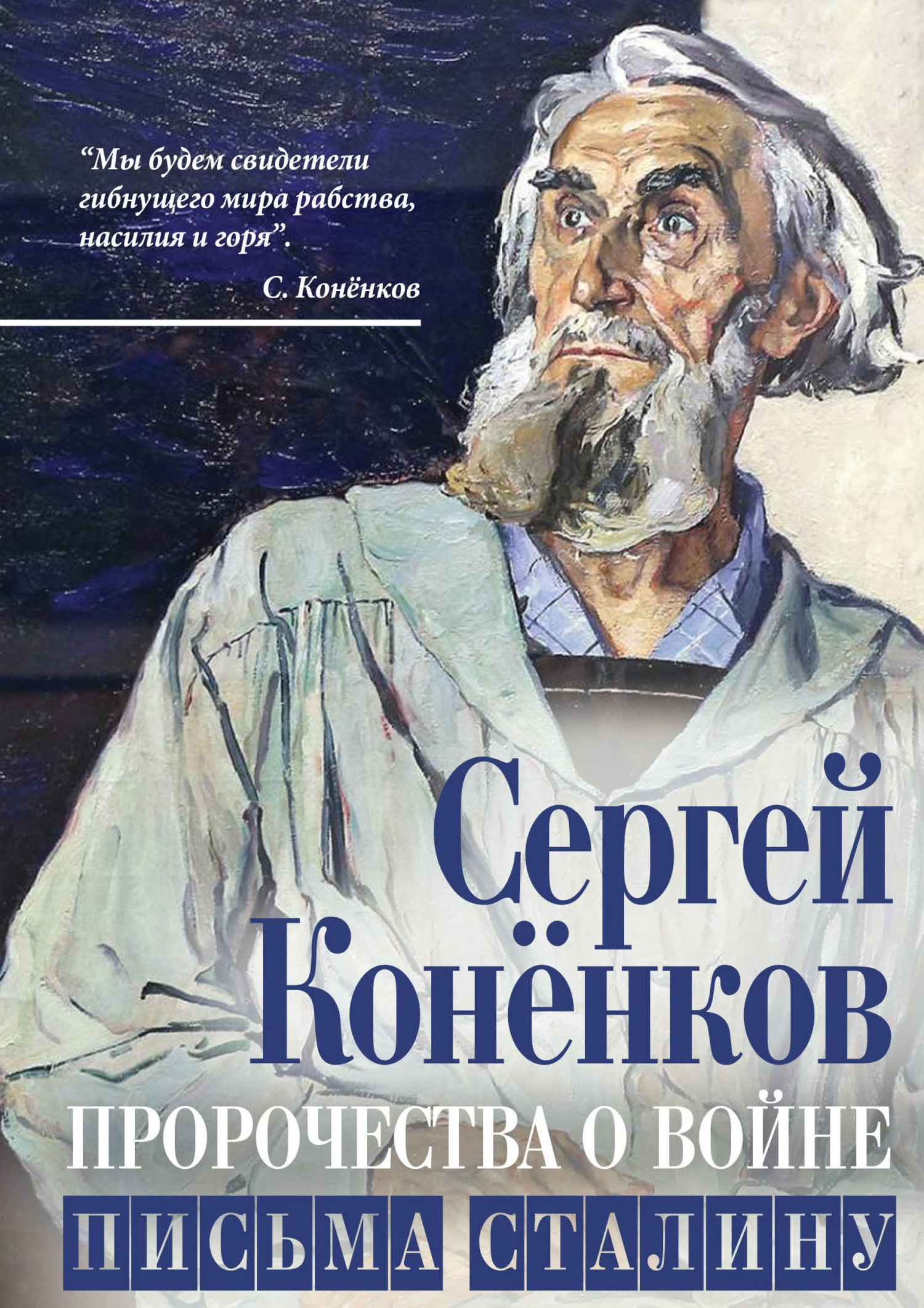Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга, в которой переплетены сны и реальность, посвящена жизни выдающегося ученого-нейрофизиолога академика Натальи Петровны Бехтеревой. Поразительно, что сны героини не только отражают события прошлого, но и служат проекцией будущего. Ее рассказ от первого лица о преодолении превратностей судьбы, о пути к главным научным открытиям, умело направляемый вопросами собеседника, достигает редкой, исповедальной откровенности. Перед нами автобиографичный, без прикрас, портрет поистине великой женщины.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Аркадий Яковлевич Соснов»: