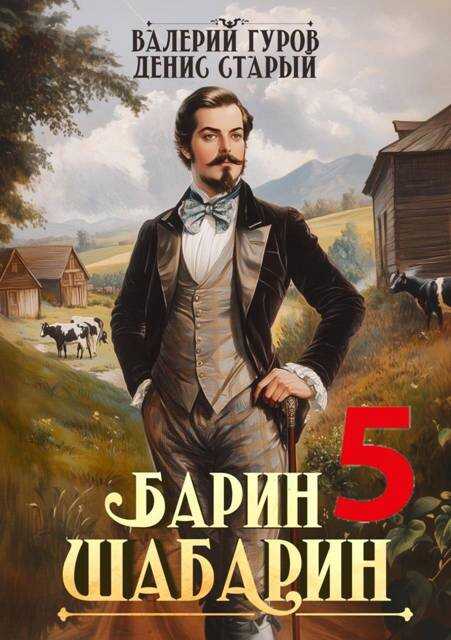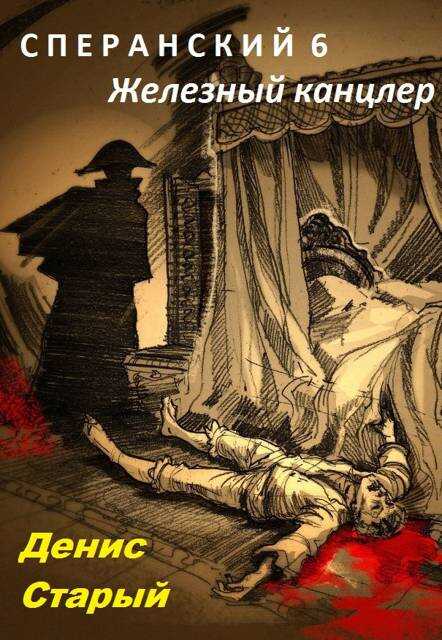Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Он величайший чиновник в истории России, невозможно, но честный человек, сделавший для Отечества много, но мог бы и больше. Он - Сперанский. А в будущем умирает Надеждин, тоже солдат государства, но чуть на ином поприще. И вот появляется новый человек. На дворе конец екатериниской эпохи, и новый человек врывается в нее. Но тут бы следовать правилу: не навреди, не сделай хуже, чем тот человек, тело которого ты захватил, как и часть сознания. Но разве мы, попаданцы, ищем лёгкие пути? Нет, нам лишь бы мир перевернулся...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Денис Старый»: