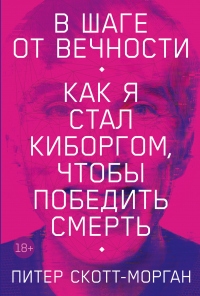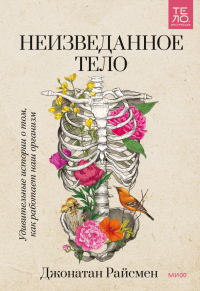Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
• Захватывающая история от первого лица – ученого, который решил превратиться в киборга, чтобы победить неизлечимую болезнь, поразившую его ЦНС. • Реальный опыт использования самых последних достижений робототехники, ИИ и хирургии в создании получеловека-полуробота. • Описание эксперимента, который способен изменить будущее смертельно больных людей. В 2017 году американскому ученому-робототехнику Питеру Скотту-Моргану диагностировали боковой амиотрофический склероз – болезнь, которую врачи признают неизлечимой (этот недуг в свое время разрушил нервные клетки Стивена Хокинга). Но Скотт-Морган не сдался. Он использовал обширные знания, опыт и новейшие технологии, чтобы заменить часть пострадавших функций своего организма электроникой. Затем ученый решил переместить свой аватар в компьютер с помощью искусственного интеллекта и стать Питером 2.0, чтобы не просто победить болезнь, но получить шанс на вечную жизнь в машине. Эта книга описывает эксперимент, похожий на сюжет научно-фантастического фильма, однако совершенно реальный. Благодаря стараниям ученого люди с инвалидностью получают шанс выжить. Эксперимент Питера 2.0 способен изменить будущее.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Питер Скотт-Морган»: