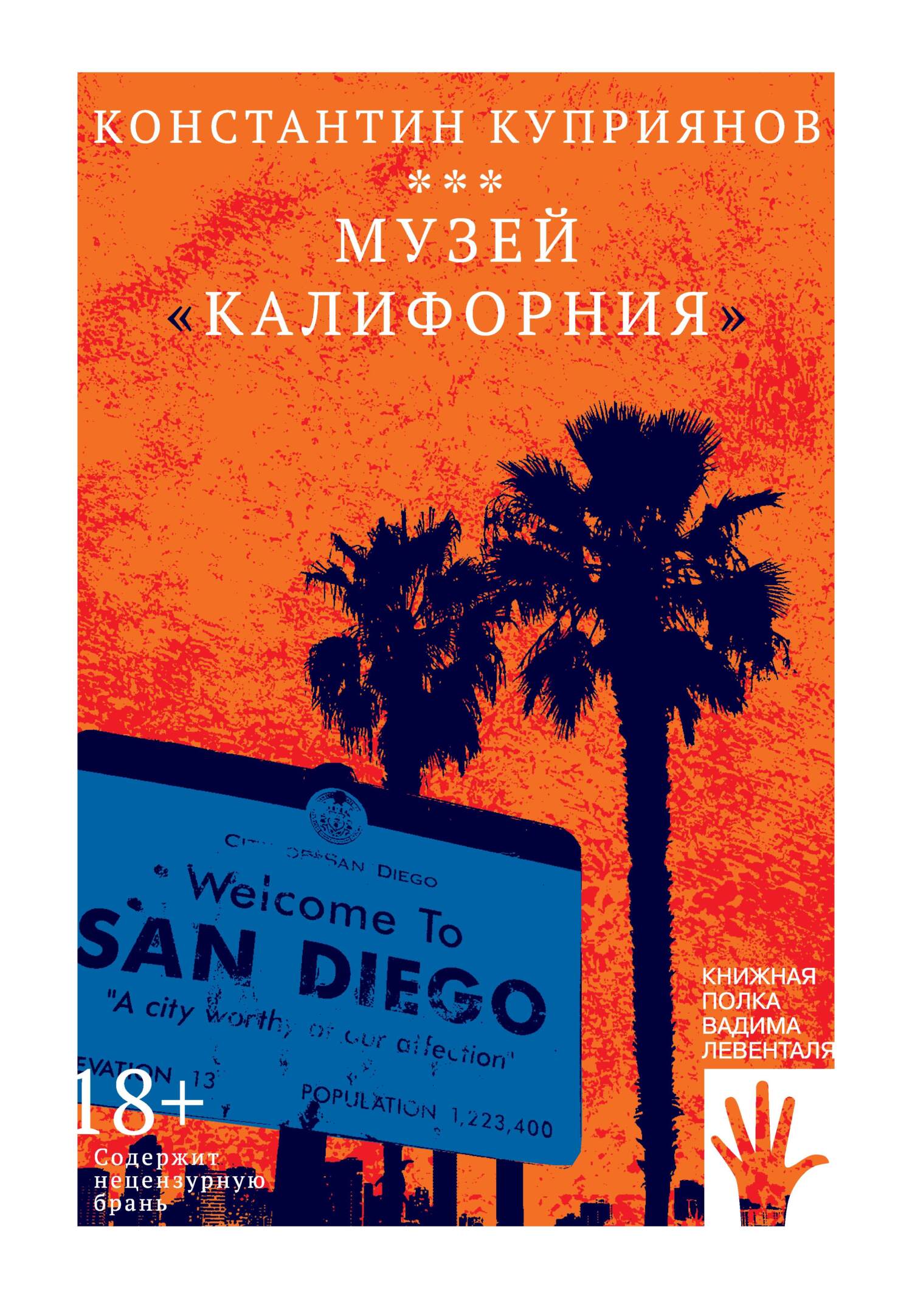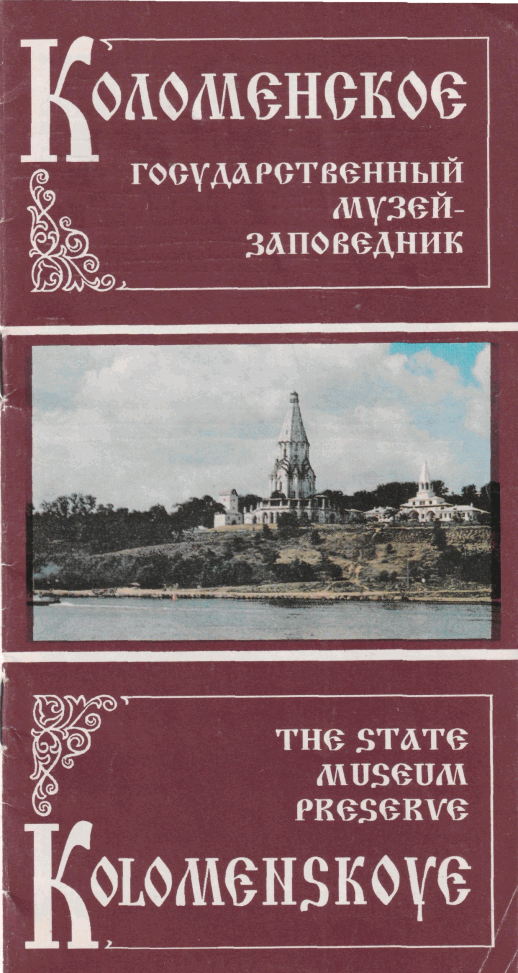Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Прозу замечательного Мастера художественного слова, классика казахской новеллистики, Саина Муратбекова, отличает подкупающая искренность, чуткость и жизненная мудрость. У колыбели его творчества стояли известные казахские писатели X. Есенжанов и А. Сарсенбаев. Василий Шукшин называл С. Муратбекова своим родным казахским братом.
Содержание: Горький запах полыни (повесть) Дикая яблоня (повесть) На вершине Ушкара (повесть) Рассказы
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Саин Муратбеков»: