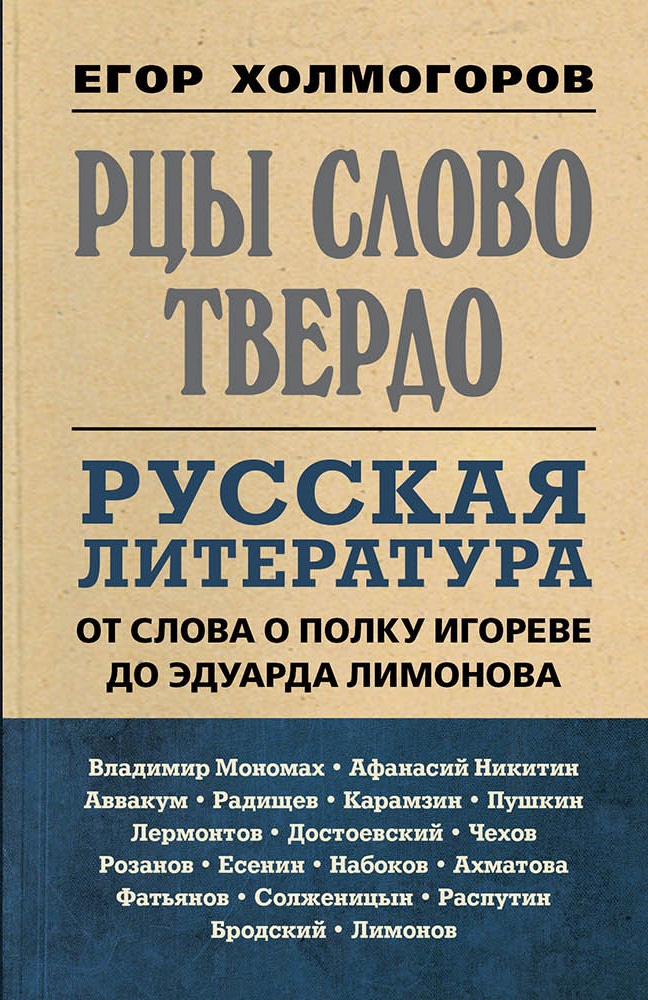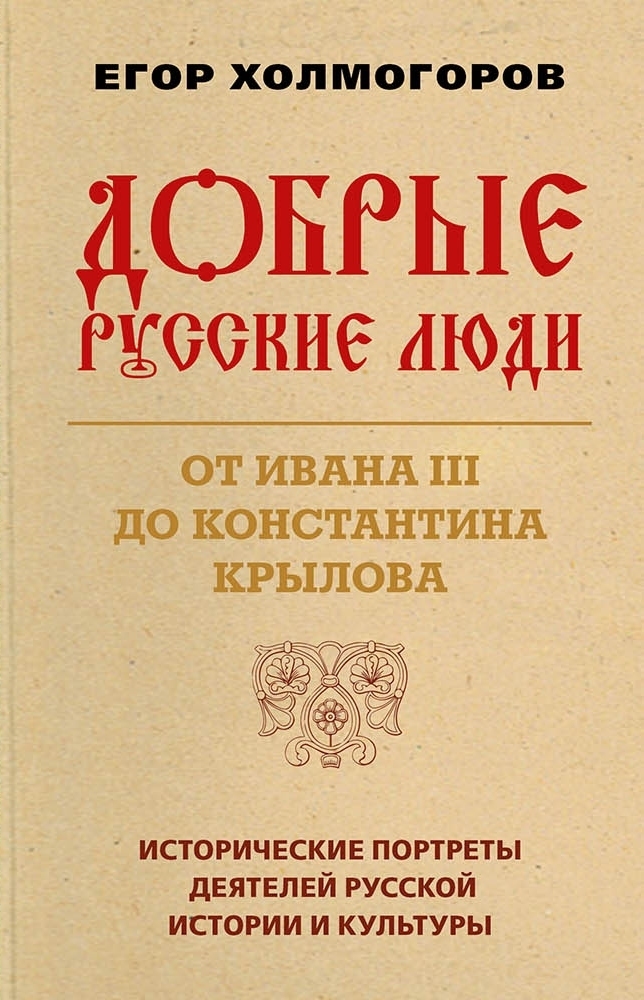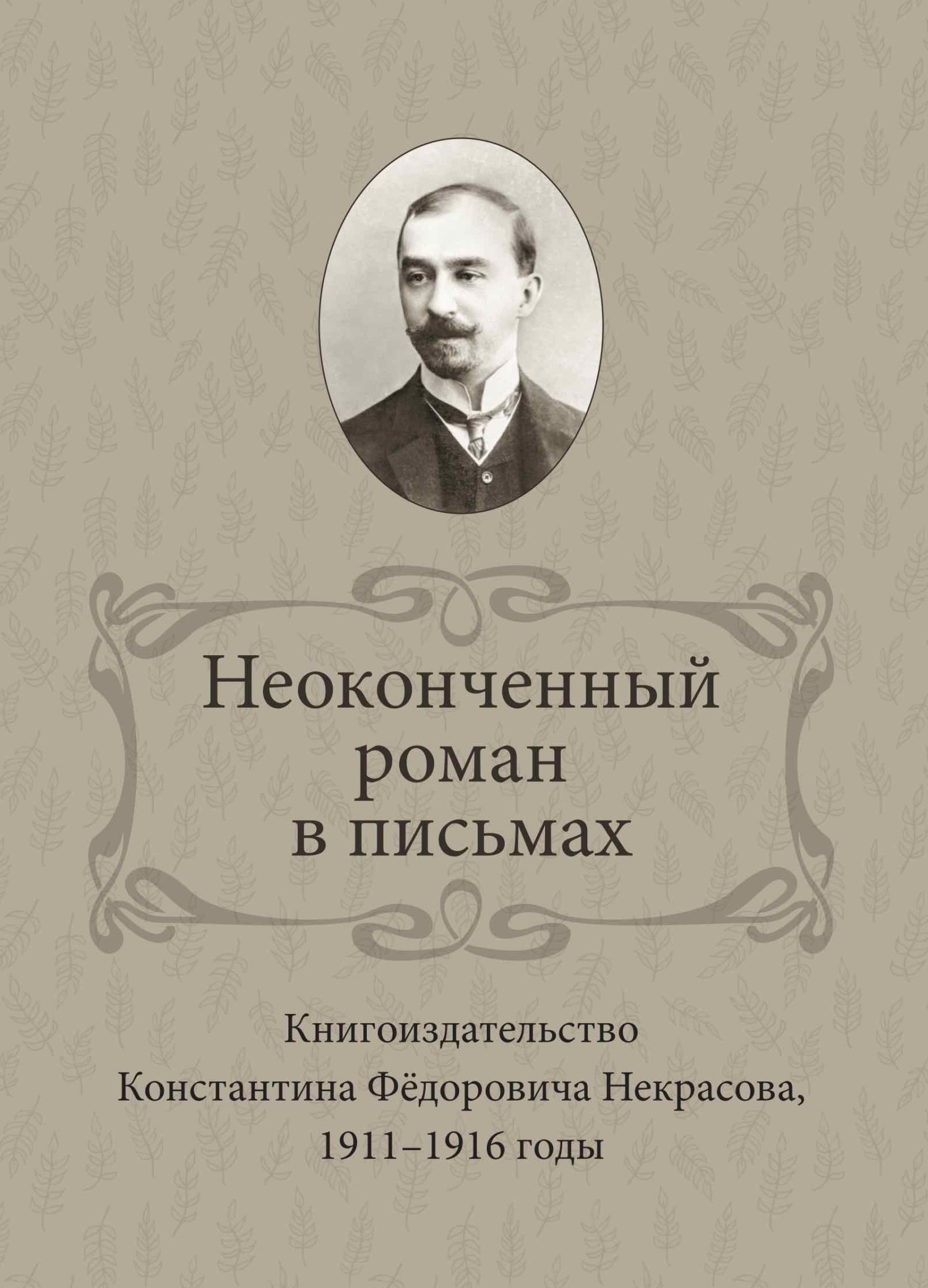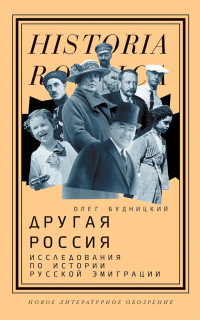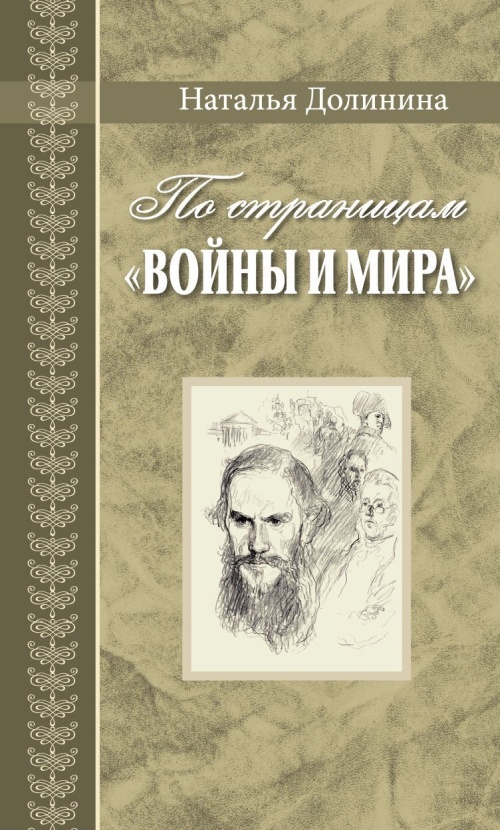Шрифт:
Закладка:
Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова - это книга Егора Станиславовича Холмогорова, известного российского публициста и историка. В этой книге он представляет исторические портреты деятелей русской истории и культуры, которые отличались добротой, мудростью, талантом и патриотизмом.
Вы узнаете, как Иван III объединил Русь и положил начало московскому царству, как Иван Грозный расширил границы России и проводил реформы, как Семён Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, как адмирал Ушаков одерживал победы на море, как фельдмаршал Кутузов спас Россию от наполеоновского нашествия. Вы познакомитесь с такими деятелями культуры, как Фёдор Достоевский, Константин Леонтьев, Константин Победоносцев, Николай Гумилёв, Александр Шаргей, Сергей Прокофьев и другими.
Эта книга для тех, кто интересуется русской историей и культурой, кто хочет узнать больше о великих людях, которые сделали много для своей страны. Эта книга написана ярким и увлекательным языком, она содержит много интересных фактов и анализов. Эта книга поможет вам лучше понять Россию и её дух.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com или заказать бумажную версию по выгодной цене. Но будьте готовы к тому, что эта книга заставит вас восхищаться и гордиться добрыми русскими людьми!