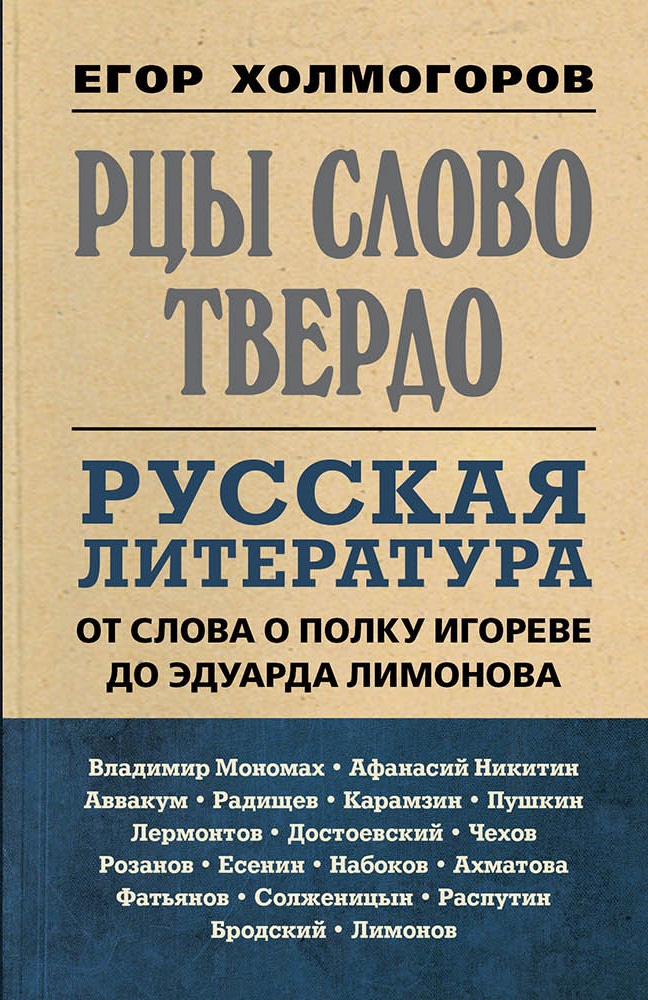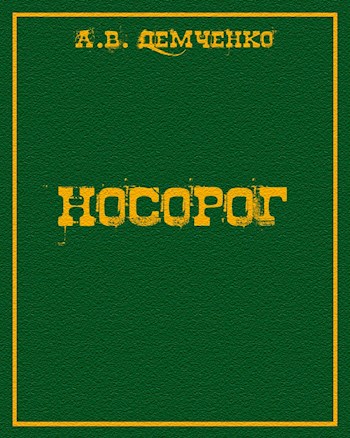Шрифт:
Закладка:
Все купюры про комиссарские зверства Шолохов старательно восстановил. Ловите, товарищ Малкин, горячий печатный привет от сталинского любимца. Вскоре Малкин получит майора НКВД, орден Красной Звезды и станет главой УНКВД по Краснодарскому краю.
«Товарищ майор, гляньте-ка, это не о вас прописано в книжке? Вот здесь, я ногтем подчеркнул. Нарасхват идёт, говорят. И в Москве читают, и по всему Дону – вслух, в станичных библиотеках. Да и у нас в крае тоже, говорят, люди интересуются: не про вас ли речь…»
Летом третья книжка «Тихого Дона» вышла отдельным изданием. Следом – все написанные к тому времени книги эпопеи в трёхтомнике. Шолохов стал самым читаемым писателем Советского Союза. Знал бы кто, какой жизнью он живёт и сколько за свой триумф платит.
В отчёте Шкирятова Сталину было сказано: «Ростовский НКВД продолжает создавать ложные дела на честных людей; против Шолохова подбираются ложные материалы и распускаются провокационные слухи». Сталин про это знал. Шолохов про это знал. Ростовский НКВД делал своё дело. Малкин во главе Краснодарского НКВД – ждал своего часа. Два соседствующих отдела НКВД – с их неслыханными возможностями, наганами, камерами, сексотами, – и один литератор в своём вёшенском доме: кто кого?
И скажите после этого, что Шолохов Мелехова не с себя рисовал.
* * *
У кого не было обид – так это у Плоткина. Отданного под суд, его могли, решением ростовских властей в прямом смысле слова угробить. А тут – «строгий выговор с предупреждением». После всех мытарств вёшенские подельники смогли наконец выдохнуть. Погуляли по Москве, расслабились, отпустили душу на волю.
Шолоховское пьянство – о котором позже начнут ходить толки – понемногу начиналось именно тогда: на жесточайших перегрузках середины 1930-х. Но в те годы хватало сил на всё: и пить, и работать, и тащить на горбу верхнедонские проблемы и горести.
Плоткин, поправляя пенсне, – которое совсем недавно начал носить, что стало причиной постоянных шолоховских острот, – не уставал благодарить Мишу: ты, говорил Або, не только меня спас, а всех наших – и Лугового, и Корешкова, и Красюкова…
…и Нагульнова, и Размётнова, – мог бы продолжить Шолохов.
Получив на руки экземпляры новых изданий, он подарил прототипу главного героя третью книгу «Тихого Дона»: «Андрею Плоткину, другу-перегибщику, на память о замечательном 1933 в Вёшенском районе, а также о совместном пребывании в Москве и событиях, бывших за это время. VII. 33 г.».
Такие парадоксы – какому сюрреалисту или магическому реалисту в голову пришли бы? Писатель срисовывает с живого человека своего героя, выпускает его в жизнь, живой человек тем временем герою не соответствует, писатель может его загубить сам, может равнодушно отвернуться и подождать, пока загубят другие, – но он его, тыкнув лицом в зверские прегрешения, выручает, – держи книжку на память, перегибщик. Теперь весь мир знает про героического большевика Давыдова, а товарищ Сталин – про Плоткина, который задницей людей на горячую печку сажал. Тебя б вот усадить самого, дурака, знал бы.
Ничего про это Плоткин в мемуарах не рассказал. А рассказал бы – у советских редакторов глаза бы на лоб повылазили. И это они ещё продолжения не знали. Плоткин отработает ещё несколько месяцев в Вёшенском районе и уедет в Киев. Вернётся на свой завод – тот самый, где трудился, как и Семён Давыдов, слесарем, а теперь стал снабженцем. Поздней осенью Шолохов, традиционно саркастичный, напишет ему: «Ну, какой из тебя снабженец? Где это видано, чтобы евреи торговали или снабжали? Ты бы, сукин кот, хоть года два после председательствования в колхозе поработал бы физически! А то нарастишь себе пузо и уж тогда без пенсне тебе шагу нельзя будет ступнуть».
И дальше ещё то ли веселей, то ли злее: «У меня уж колхозники допытывались: “А что в этом году будут ломать саботаж или нет?” Я отвечал так: “Нет, не будут, Плоткину сейчас некогда. Он снабжает Украину, в том числе и Киев с окрестностями. А вот когда ему это дело надоест, – тогда он снова приедет сажать вас на горячую лежанку и разговаривать про саботаж”.
Люди радуются. А некоторые особо осторожные поговаривают о том, что надо, дескать, стряпаться на дворе, а лежанки и печки поразваливать заранее. По-моему, эти люди глупы… Как будто нельзя вместо лежанки сажать на горящий примус?»
И, спустя абзац, добивает адресата: «…в Еринском, Лебяженском родятся сейчас диковинные детишки: один, по слухам, родился прямо в пенсне, другой – как предсказывает одна старушка – непременно будет работать по снабжению, разумеется, когда вырастет».
Всё-таки он его любил. Иногда даже не столько конкретного Плоткина, деятельного и харизматичного еврея в нелепом пенсне, – а слепок своего, ставшего родным, персонажа. Давыдов романный – при всём сходстве биографической канвы – это как бы преображённый Плоткин, да к тому же наделённый русским размахом и совестливостью Лугового.
В финале первой книги «Поднятой целины» Давыдов переживает жесточайшее избиение восставшими хуторянами, по большей части бабами. (Никаких иллюзий по поводу якобы врождённого гуманизма женщин Шолохов, конечно, не питал; дело тут и не в женщинах вовсе.)
«Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, но он всё ещё улыбался вспухшими губами, выказывая нехваток переднего зуба, неторопливо и несильно отталкивал особенно свирепо наседавших баб. Страшно досаждала ему Игнатенкова старуха с гневно дрожавшей бородавкой на носу. Она била больно, норовила попасть либо в переносицу, либо в висок и била не так, как остальные, а тыльной стороной кулака, костяшками сжатых пальцев. Давыдов на ходу тщетно поворачивался к ней спиной. Она, сопя, расталкивала баб, забегала ему наперёд, хрипела:
– Дай-кася, я его по сусалу! По сусалу!»
«Его мучила жажда, одолевала бессильная ярость. Били его не раз, но женщины били впервые, и от этого было ему как-то не по себе. “Только бы не свалиться, а то озвереют и – чего доброго – заклюют до смерти. Вот глупая смерть-то будет, факт!” – думал он. <…>
Возле самого двора колхозного правления Давыдов сел на дорогу. Парусиновая рубаха его была в крови, короткие городские штаны (с бахромой внизу от ветхости) разорваны на коленях, из распахнутого ворота высматривала смуглая татуированная грудь. Он тяжело, с сапом дышал и выглядел жалко.
– Иди, су-ки-и-ин ты сын!.. – Игнатенкова старуха топала ногами.
– За вас же, сволочей!.. – неожиданно звонко сказал Давыдов и повёл по сторонам странно посветлевшими глазами. – Для вас же делаем!.. И вы меня же убиваете… Ах, сво-ло-чи!»
Перед нами, конечно же, библейский мотив, контрабандно поселившийся в образцовом соцреалистическом тексте. Забитый почти до полусмерти, Давыдов подставляет под