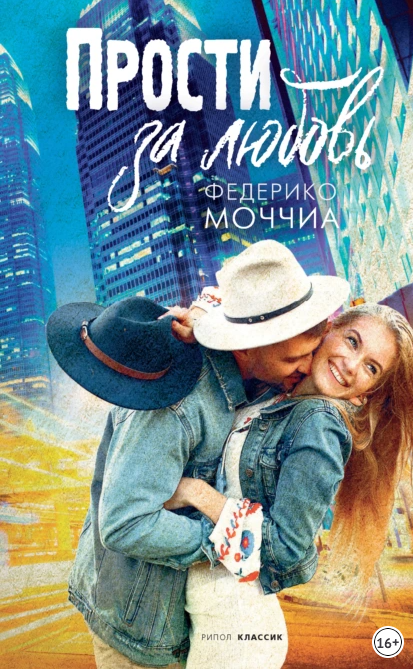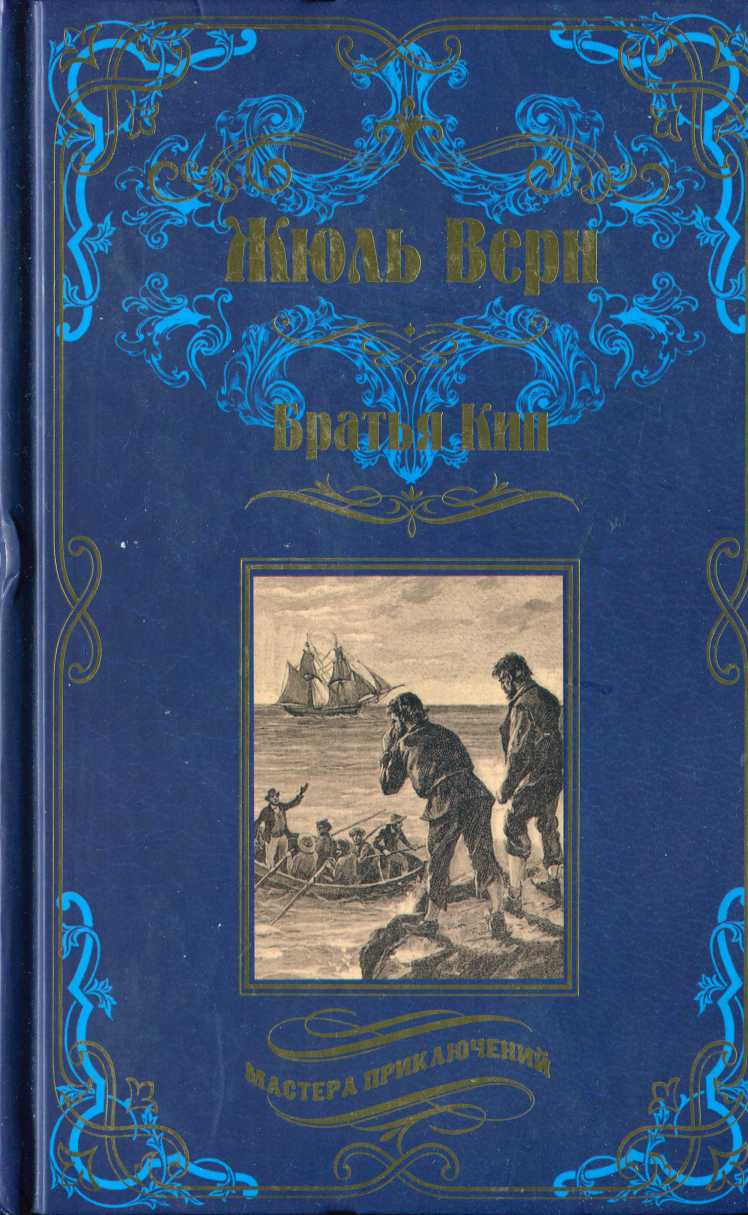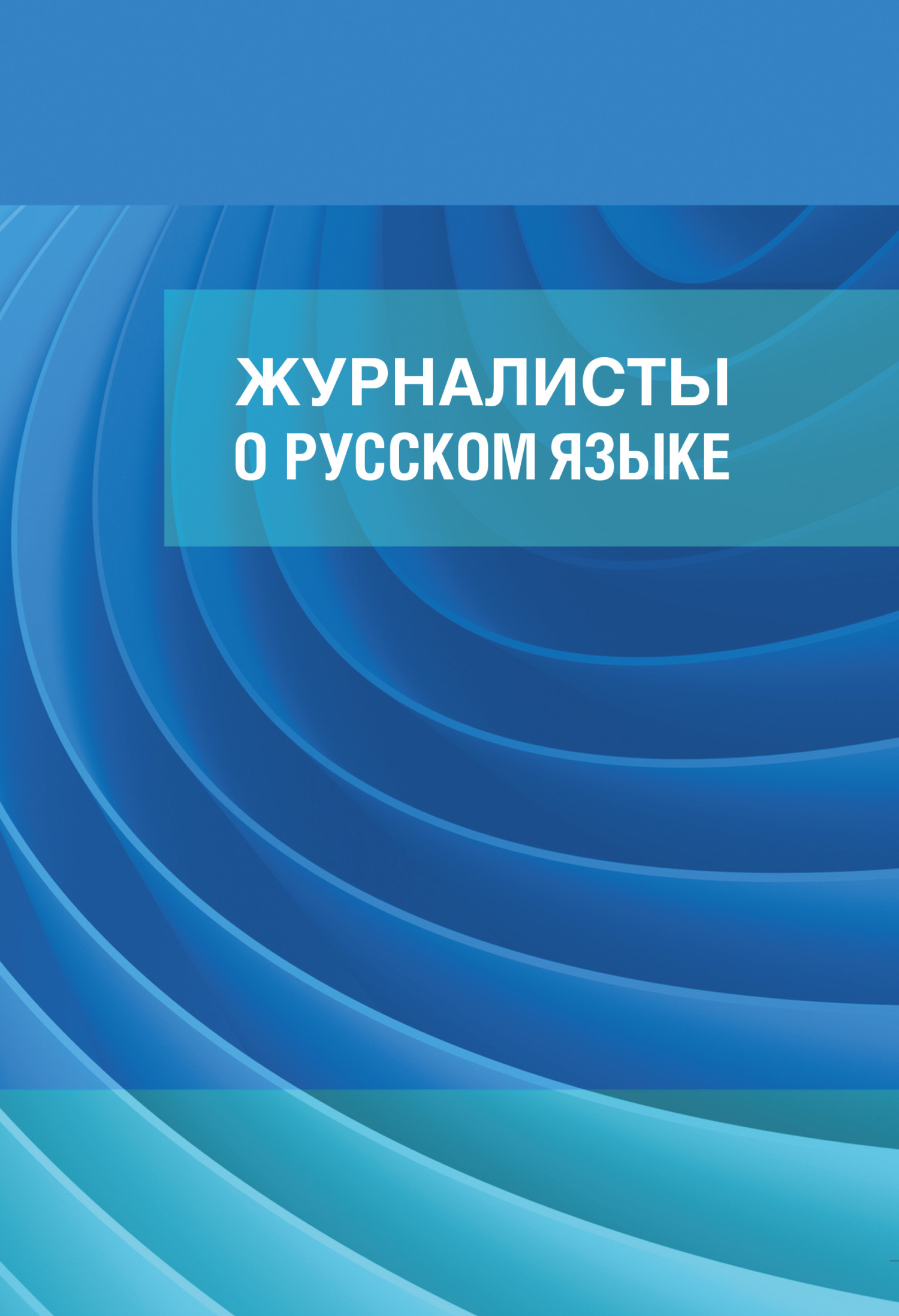Шрифт:
Закладка:
Масштабная семейная сага о семействе Флорио, чья история охватывает более 150 лет и переплетена со взлетами и падениями Сицилии.Начав с торговли пряностями в небольшой лавке, Флорио основывают свою империю. Им принадлежат винодельни, пароходы, тунцовый промысел, дома, драгоценности, машины. Но недостаточно достичь вершины, на ней еще нужно удержаться. Иньяцио пытается идти по стопам своего отца и дедов, однако его больше прельщают шумные вечеринки, общение с друзьями и девушки, много девушек. Он задаривает свою жену дорогими украшениями после каждой измены, допускает одну ошибку за другой в бизнесе и поначалу не замечает, как от могущественной империи начинают откалываться куски…Это продолжение романа «Львы Сицилии. Сага о Флорио», но благодаря авторской подаче вторую часть можно воспринимать как независимое произведение.Это роман-аллюзия на «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса.Это роман о любви и ненависти, об эмоциональной зависимости и предательстве.Это роман о семье и о том, как семья может распасться.