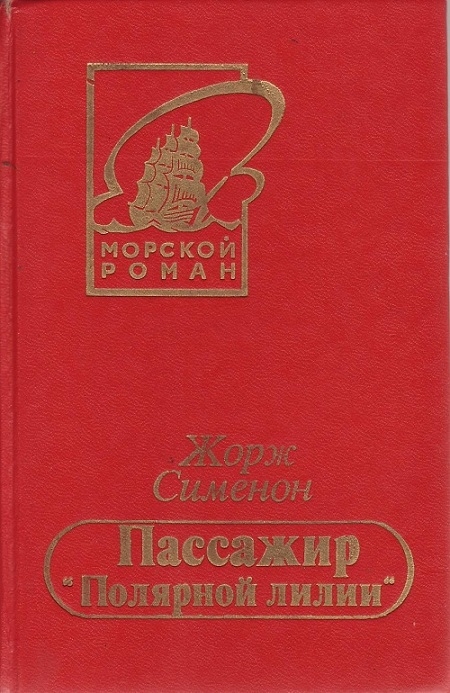Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Фактически неизвестная русскому читателю современная шведская пьеса, продолжающая традиции А. Стриндберга, представлена в книге именами наиболее известных драматургов — П. У. Энквиста, Л. Нурена, А. Плейель, М. Гарпе, С. Ларссона, Б. Смедс. Семейные драмы, любовь и ненависть, экзистенциальные проблемы выражены в этих произведениях с психологической глубиной и шокирующей обнаженностью.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Пер Улов Энквист»: