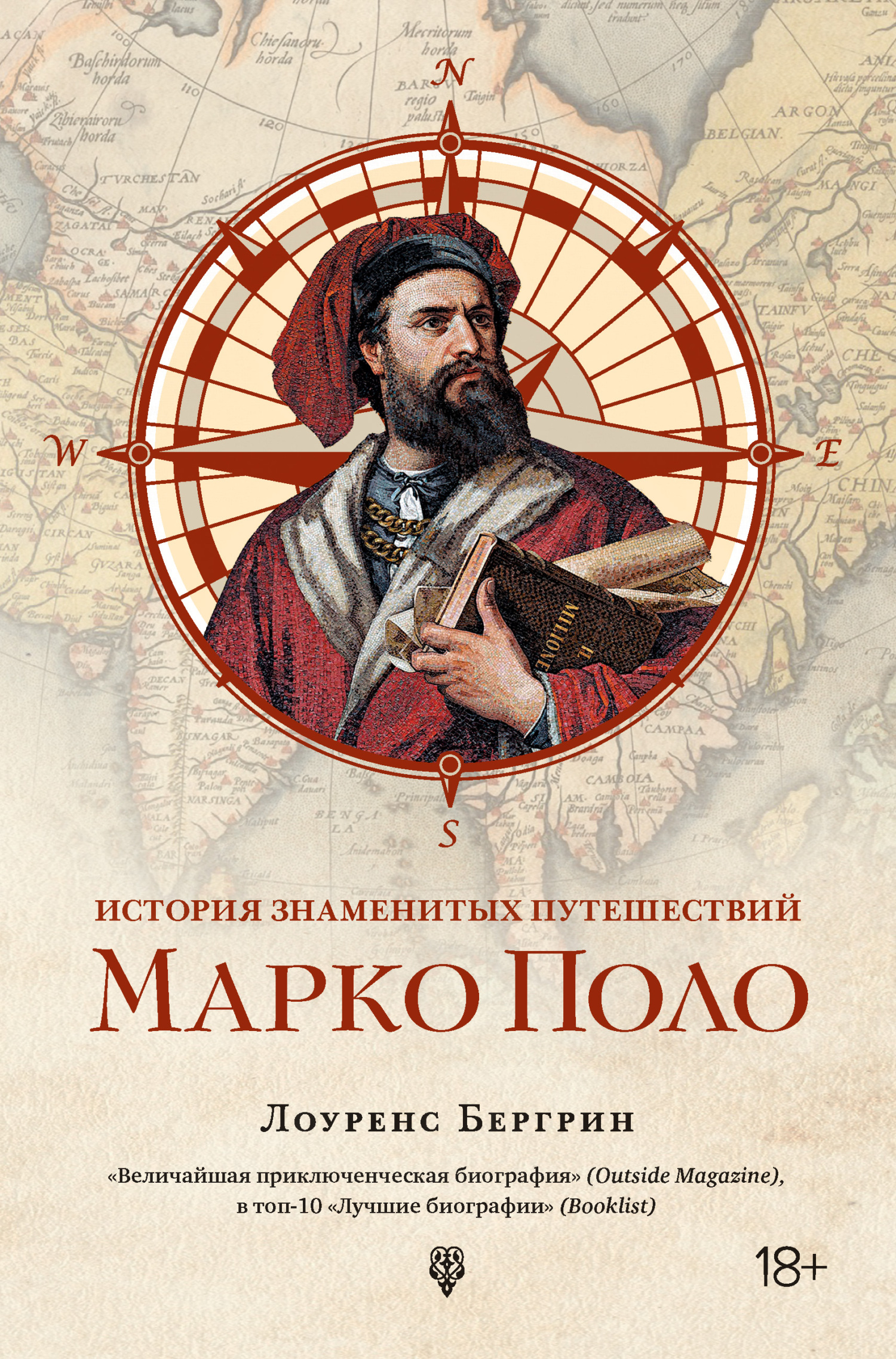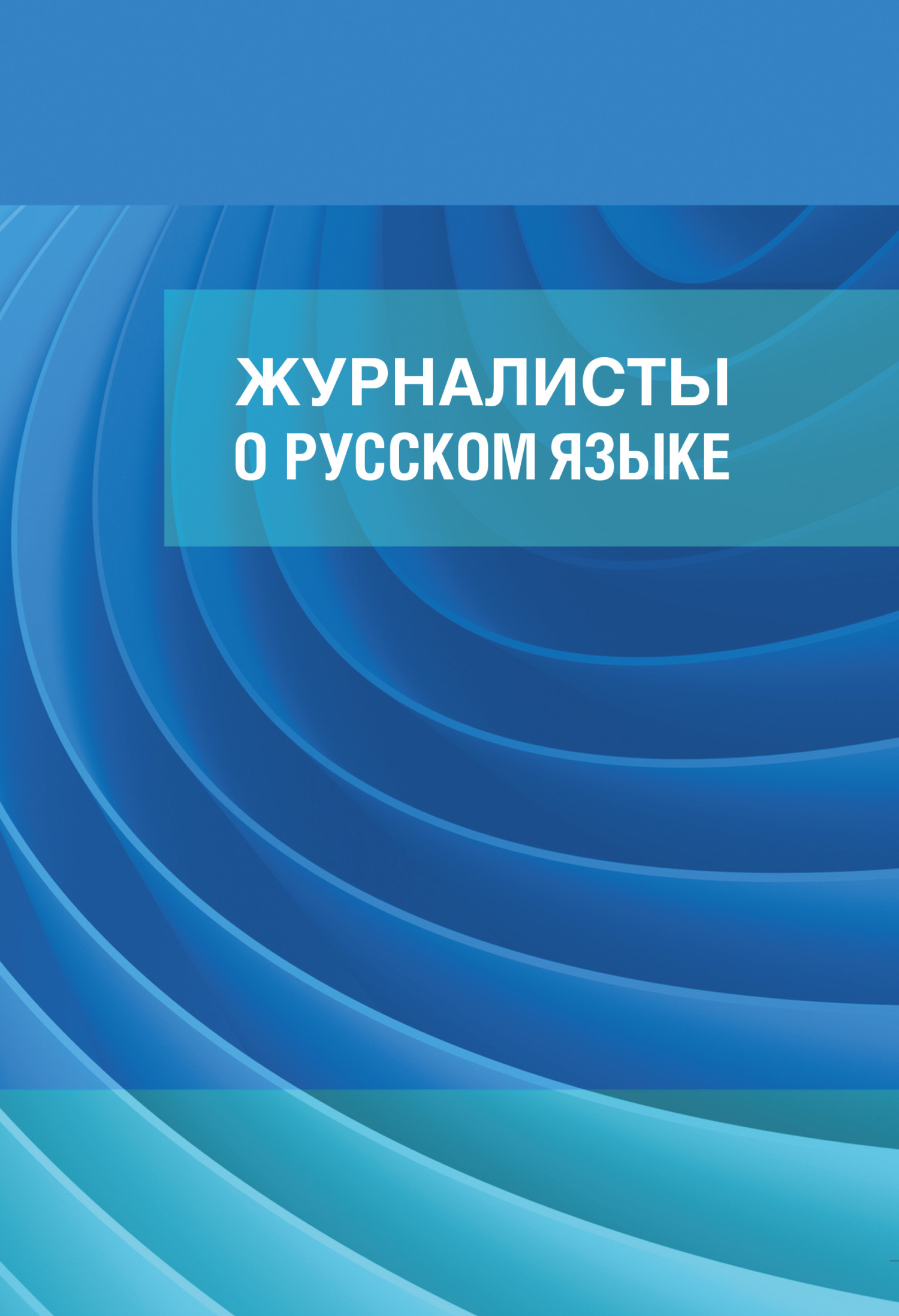Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Парадайс» – элитный жилой комплекс, который связал двух друзей-неудачников, толстяка Франко Андраде, порнозависимого, пускающего слюни на красивую соседку, и долговязого Поло, уставшего от наставлений матери садовника этого райского местечка. Недовольство героев перерастает в напряжение, стремящееся к пугающей кульминации – в хмельном угаре парни спланировали кое-что очень плохое…Старое доброе ультранасилие по-мексикански. Взрывоопасная смесь гнева, липкого эротизма, одинокого отчаяния и умирающего мачизма заставляет переосмыслить реальность и понятие социальной справедливости.Роман вошел в шортлист Дублинской литературной премии 2023 года.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Фернанда Мельчор»: