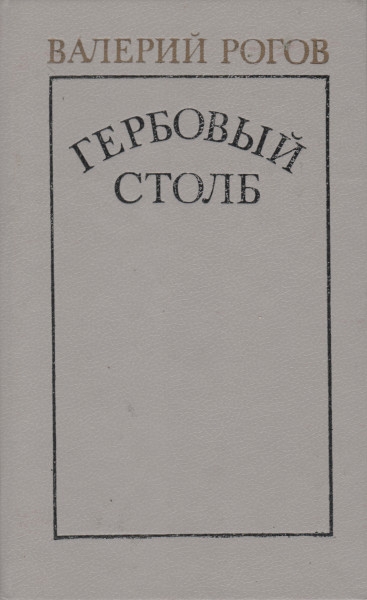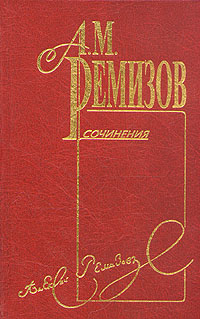Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Глиняный фрагмент старинной терракотовой фрески, попавший в руки китайского предпринимателя Чена, притягивает к себе внимание самых разных людей: ученых-исследователей из Германии, петербурженки Марины Рябининой и ее друзей, молоденькой студентки-китаянки Мей-ли и многих других. История мистической фрески уходит в далекие 20-е годы прошлого столетия, когда остатки белогвардейской армии генерала Дутова прятались от красноармейцев в древних пещерах Могао на территории Китая.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Альбина Юрьевна Скородумова»: