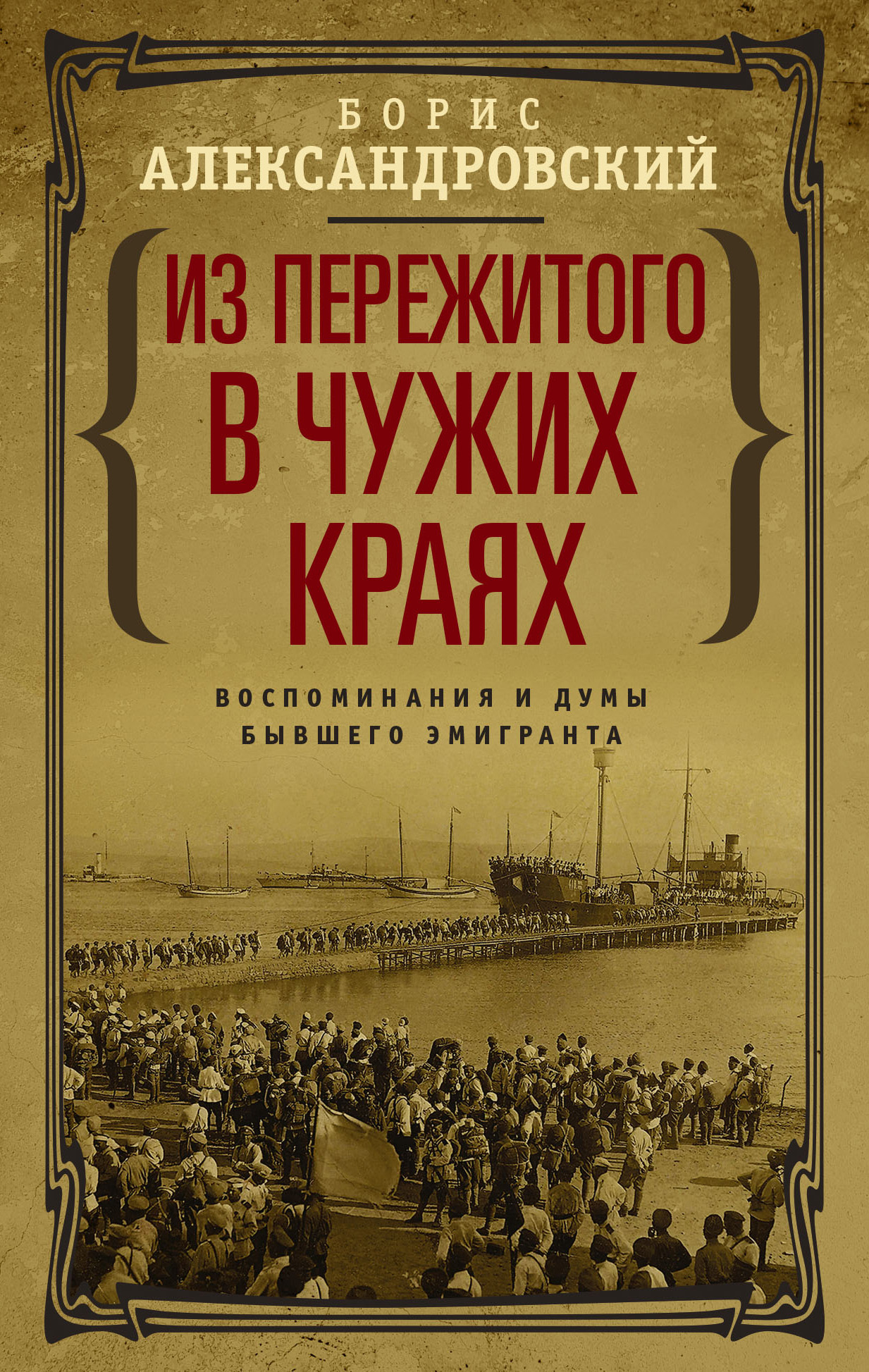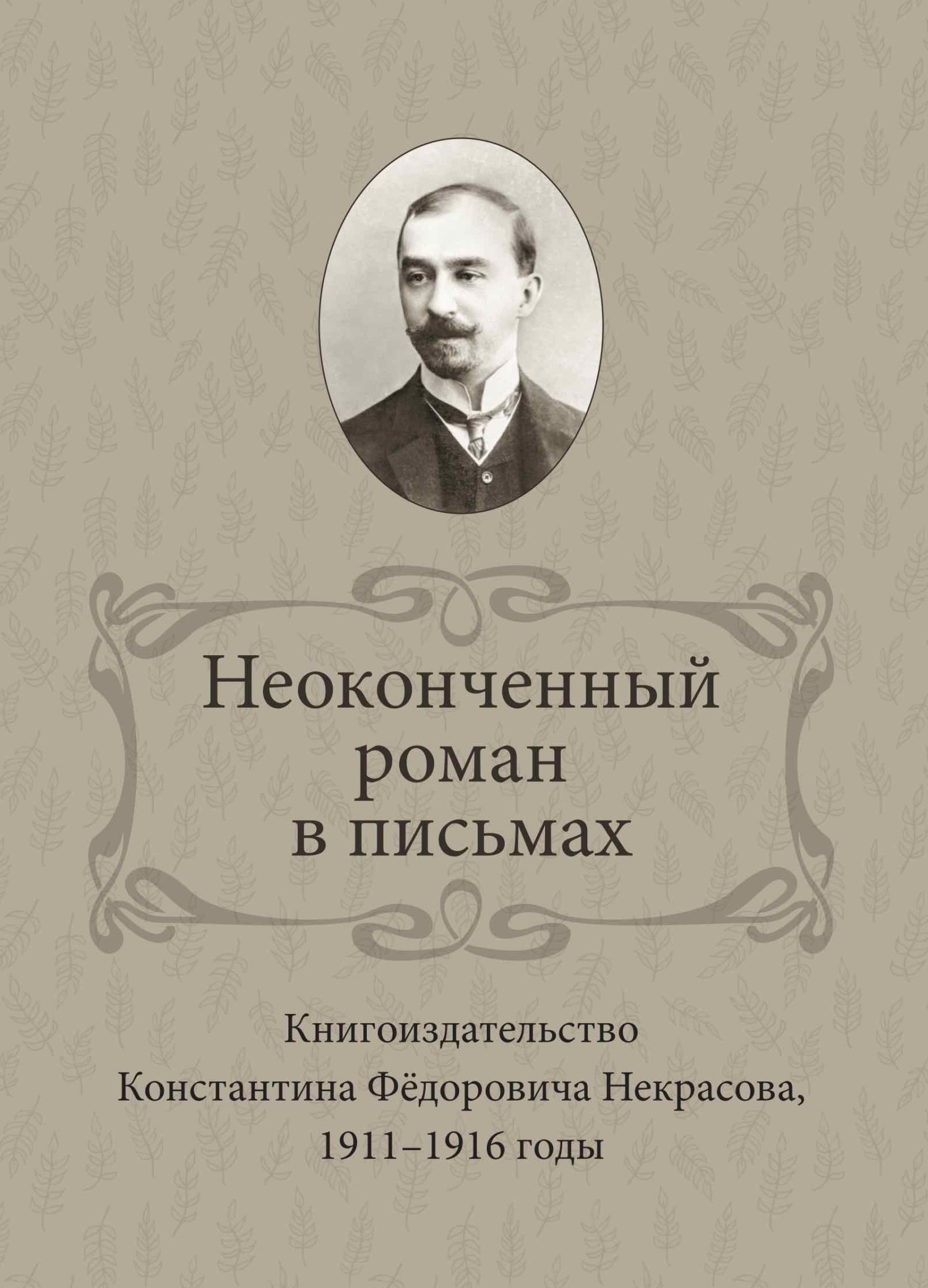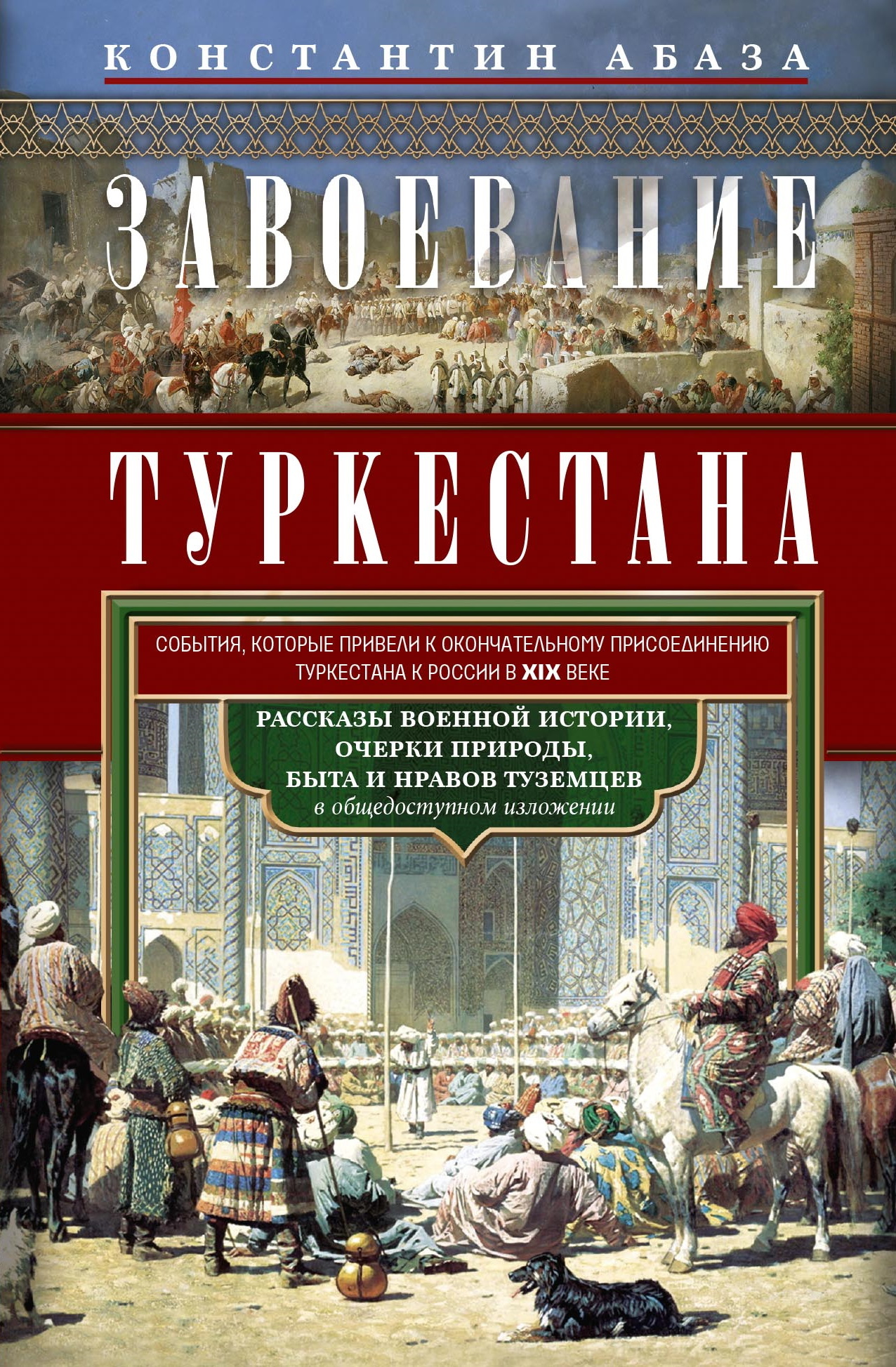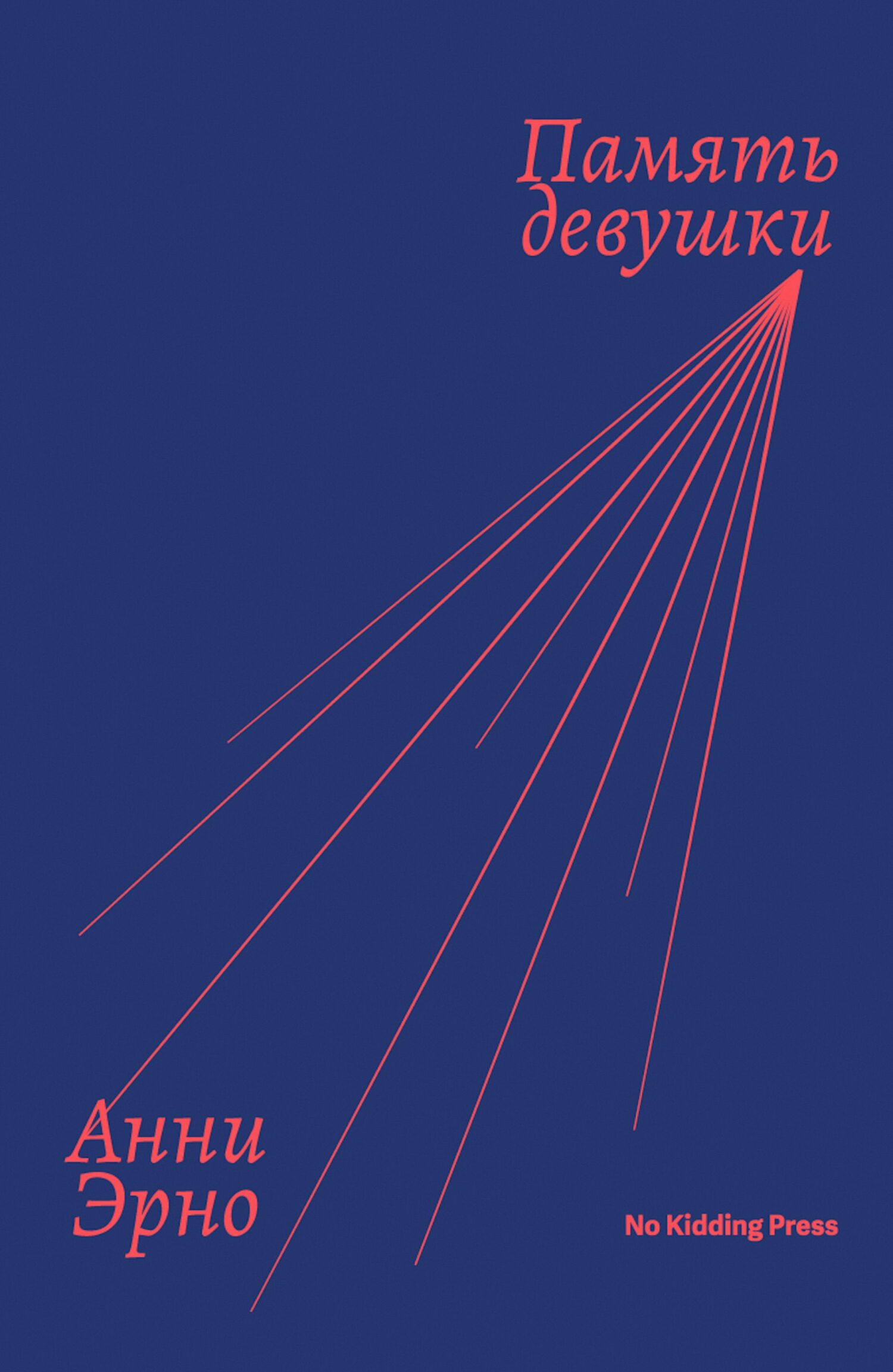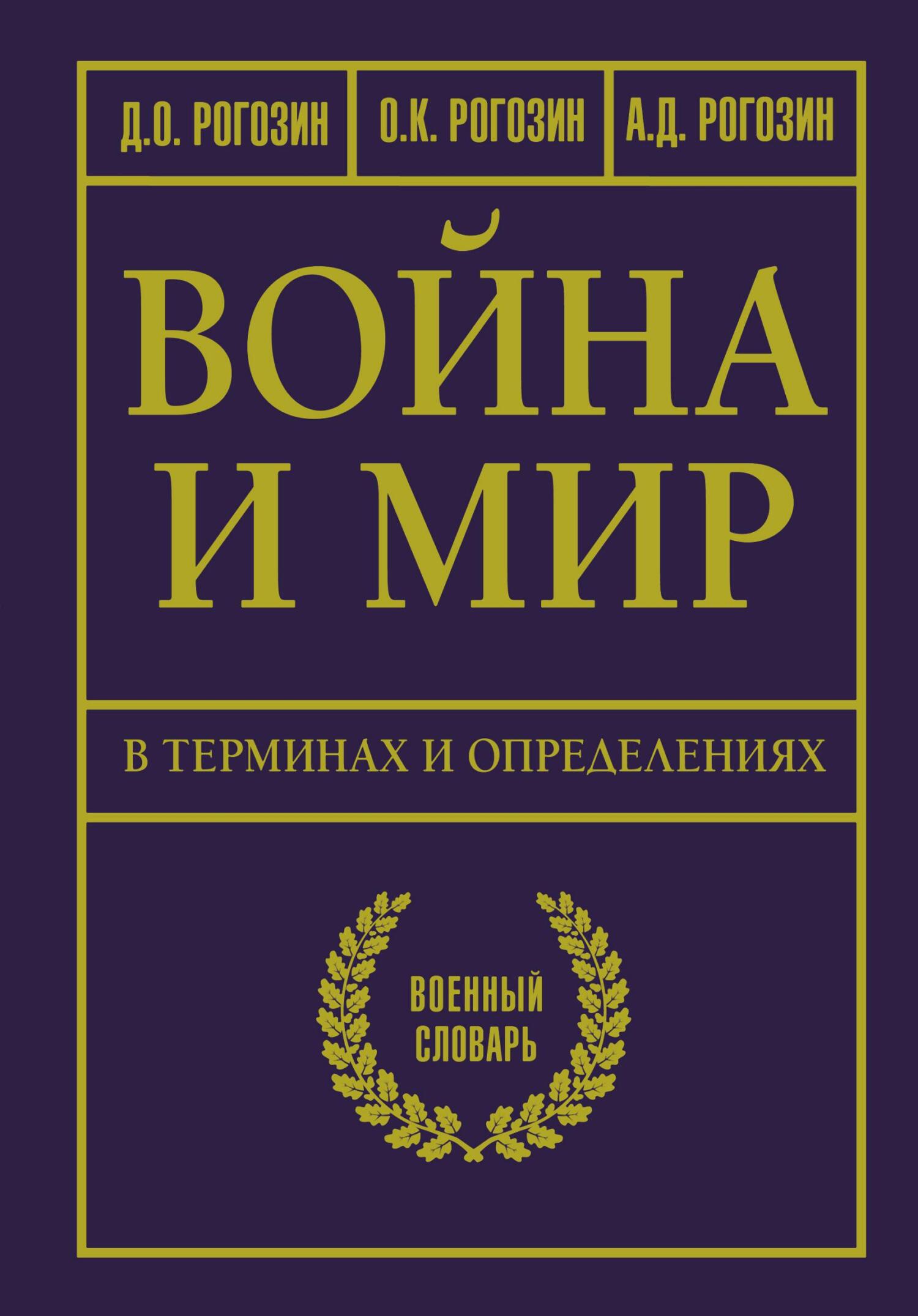Шрифт:
Закладка:
Эта книга - это уникальное свидетельство о жизни и службе русского офицера в период революций и Первой мировой войны. Автор, Юрий Владимирович Макаров, был офицером Семеновского полка - одного из старейших и престижных полков Российской империи. Он рассказывает о своем детстве, обучении в Павловском военном училище, участии в подавлении первой русской революции 1905 года, службе в Петербурге и на фронте, а также о своем отношении к событиям Февральской и Октябрьской революций 1917 года.
“Моя служба в старой гвардии” - это не только исторический документ, но и литературное произведение. Автор пишет ясно, честно и эмоционально, делая свою книгу захватывающей и трогательной. Он не скрывает своих чувств, мыслей и сомнений, которые испытывал в те трудные времена. Он также дает много интересных подробностей о быте, нравах и традициях русского офицерства, а также о своих товарищах по службе и сражениях. Он также дает много цитат и ссылок на дневники, письма и мемуары других участников тех событий. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com