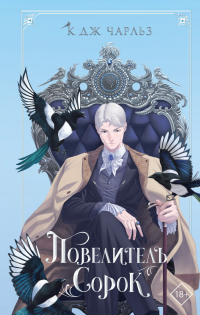Шрифт:
Закладка:
Стивен Эриксон, создатель знаменитого Малазанского цикла («Малазанская книга павших»), оцененного по достоинству как читателями, так и признанными мастерами фэнтезийного жанра, вновь ведет нас по запутанным тропам своей вселенной, где искусство магии столь же обыденно, как в нашем мире самолет и автомобиль. Шесть историй о Бошелене и Корбале Броше, двух странствующих чародеях-некромантах, и их горемычном слуге Эмансипоре Ризе ввергнут нас в такую бездну страстей, что мало не покажется никому. Герои наши не отличаются благонравием, ведь в мире, который их окружает, нет места сентиментальности и доверчивости, здесь надо держать ухо востро, чтобы тебя не съели — и в переносном, и в прямом смысле. Им, правда, по роду деятельности помогают души умерших, способные прорицать будущее, — но не всегда и без особой охоты, так что лучше надеяться на себя, на удачу и на попутный ветер. Впервые на русском!