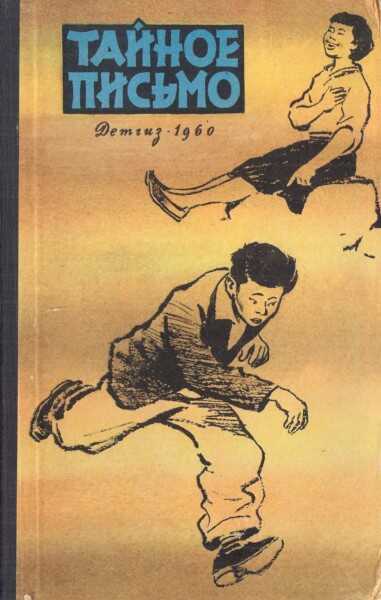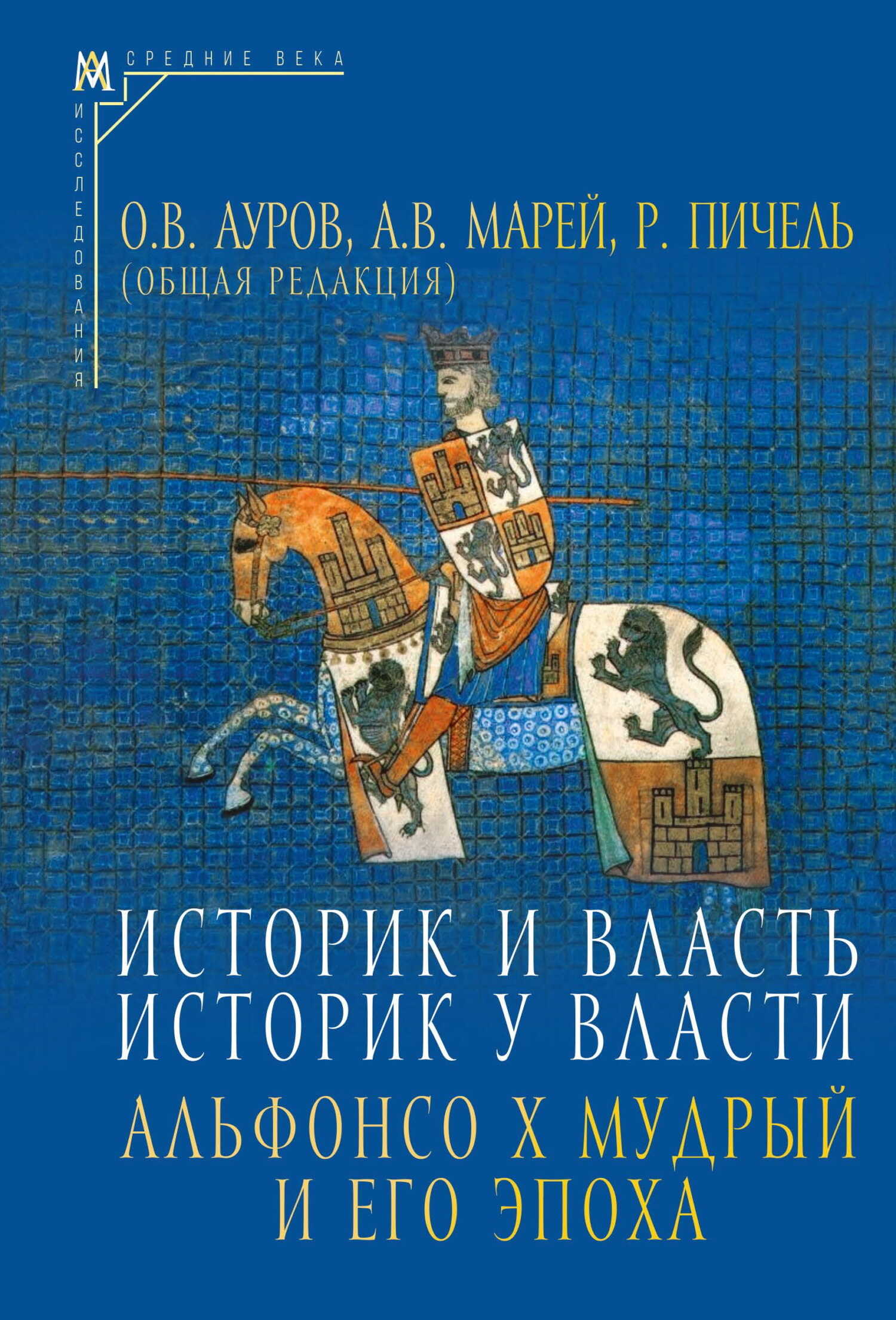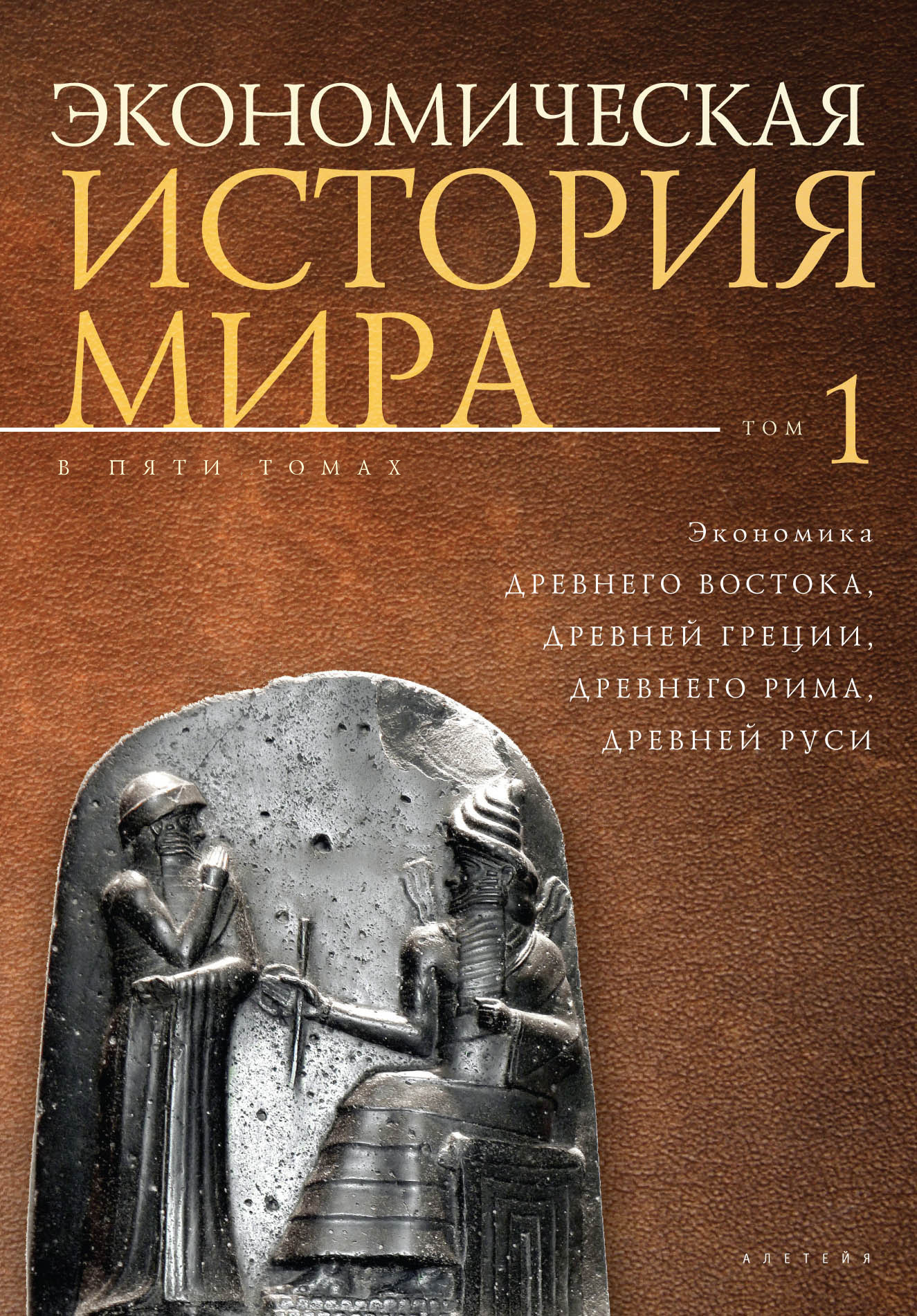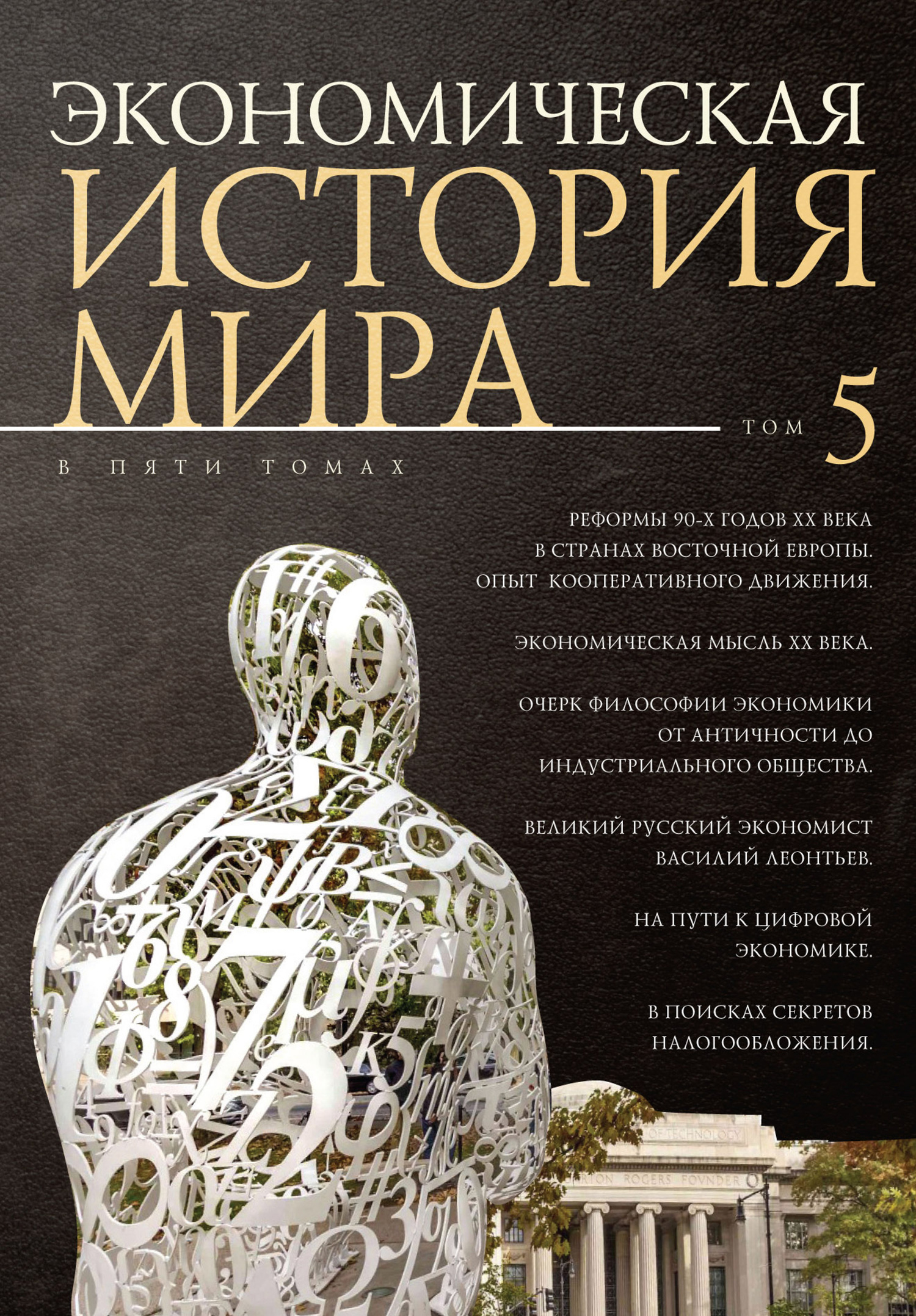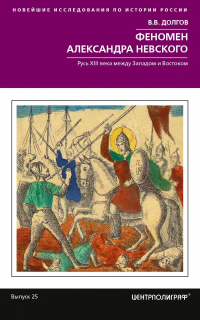Шрифт:
Закладка:
Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, представителю русской философской традиции первой половины XX века – Сергею Николаевичу Булгакову (1871–1944), проделавшему впечатляющий путь от «легального» марксиста к священнику и богослову в «русском Париже». Его философские, богословские, социологические, политико-экономические идеи и сегодня продолжают вызывать большой интерес и в то же время острые споры как в России, так и за рубежом. В томе собраны статьи современных философов, религиоведов, литературоведов, в которых актуализируется интеллектуальное наследие С. Н. Булгакова. Ряд статей посвящен его личности и судьбе, в которой выражаются все трагические события первой половины ХХ века.Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, общественной и религиозной христианской мыслью, историей русской эмиграции в Европе.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.