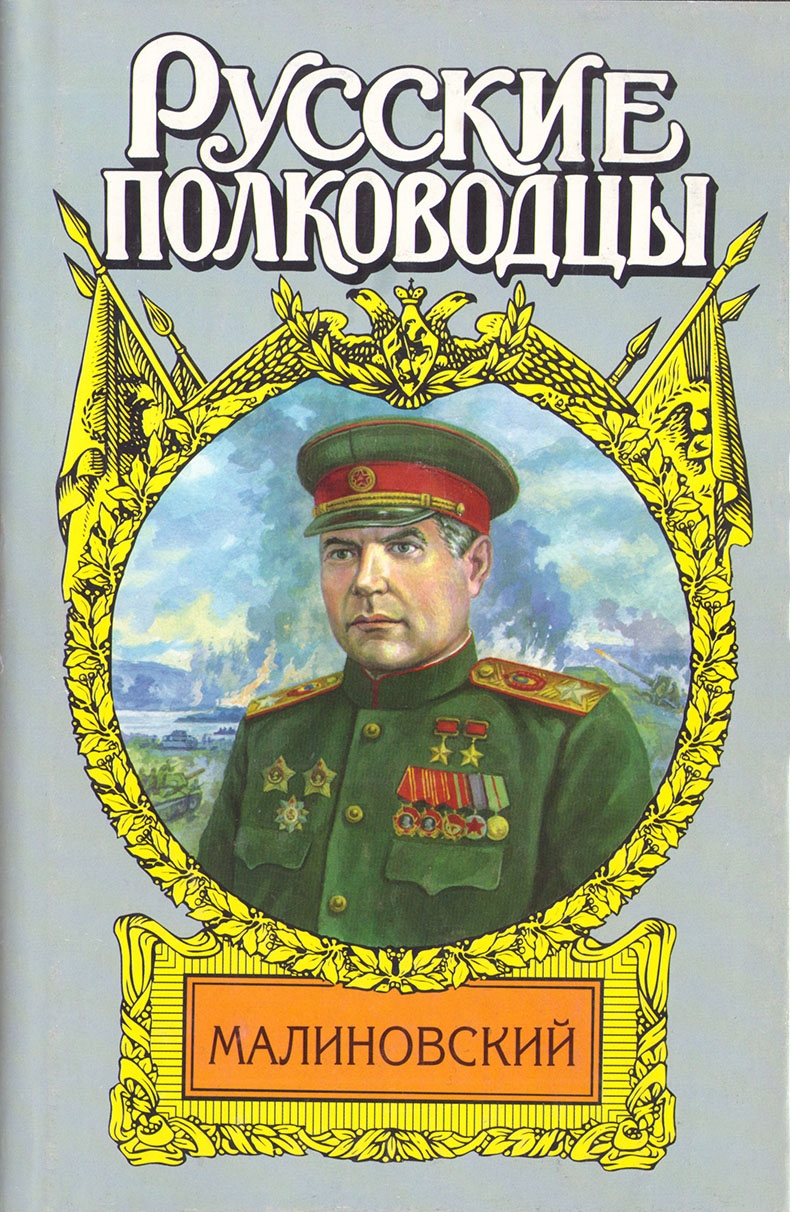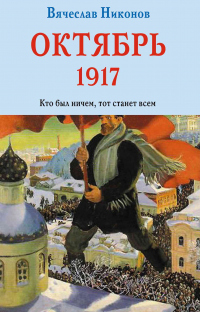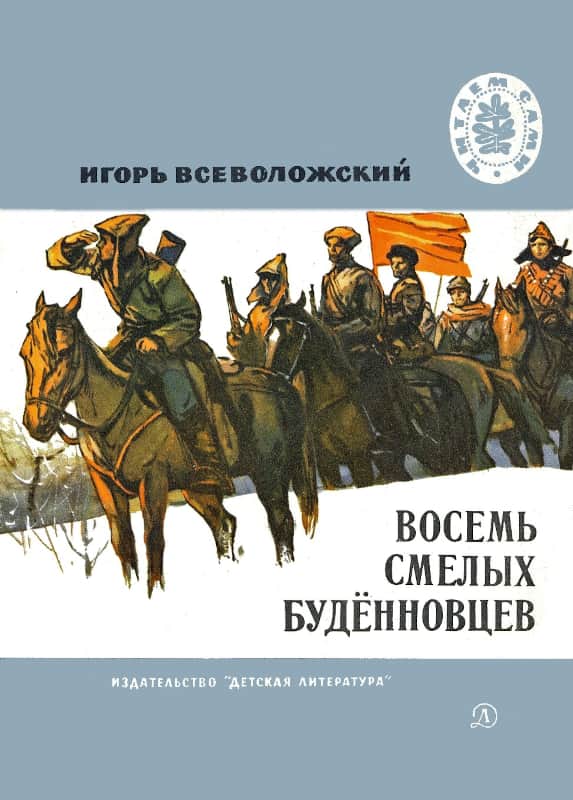Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
мя Маршала Малиновского стоит в одном ряду с именами Маршалов Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского и других прославленных военачальников, усилиями которых ковалась Великая Победа. Новый роман современного писателя Анатолия Марченко рассказывает о жизненном пути одного из самых прославленных военачальников XX века, маршала Родиона Яковлевича Малиновского (1898—1967).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анатолий Тимофеевич Марченко»: