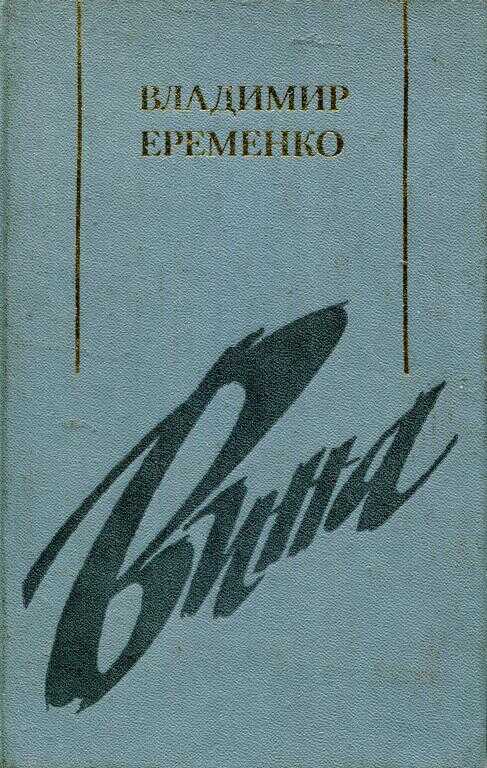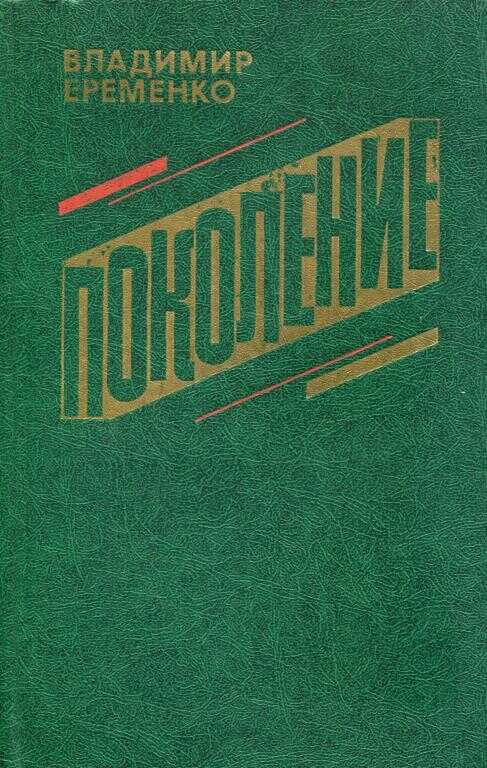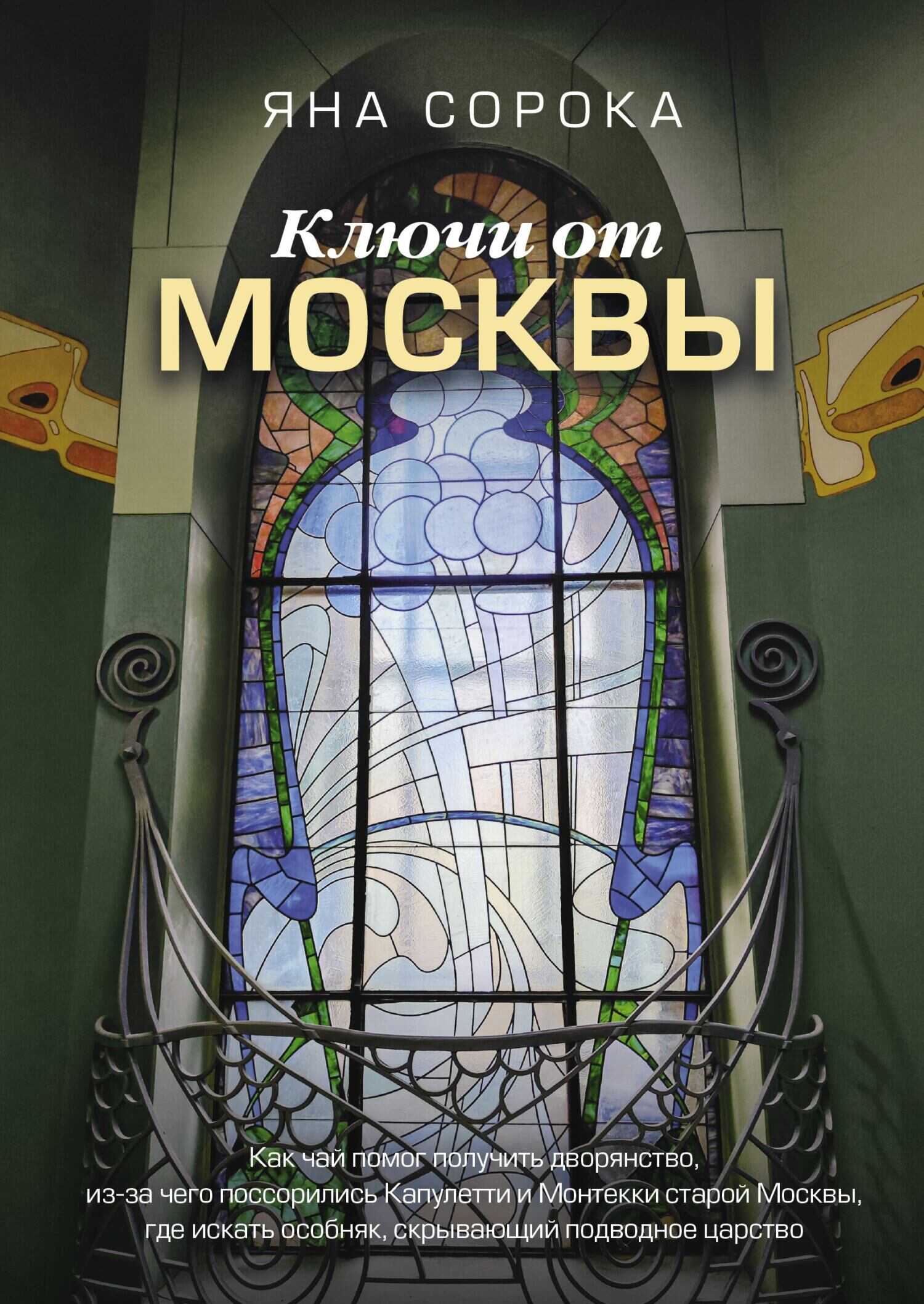Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга состоит из романа «Поколение», повести «За синими ночами» и рассказов. Все произведения объединены одной темой — нравственные искания ее героев. В ней средствами художественной прозы раскрываются проблемы поиска молодыми рабочими своего места в жизни, преемственности поколений и исполнения высокого гражданского долга перед Родиной.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Николаевич Ерёменко»: