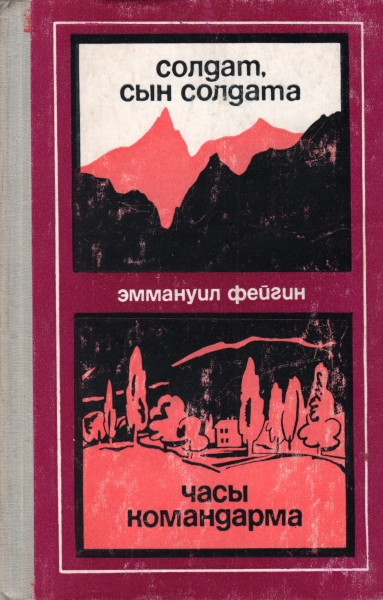Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сильвия Плат – культовая американская поэтесса и обладательница Пулитцеровской премии. Символ исповедальной поэзии. Мученица, феминистка, бунтарка – называть ее можно по-разному.Но есть один неоспоримый факт: представить себе поэзию XX века без нее просто невозможно.Сборник стихотворений «Ариэль» по праву считается одной из лучших работ Сильвии Плат. Он был опубликован в 1965 году, через два года после смерти автора.В России «Ариэль» издается впервые.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Силвия Плат»: