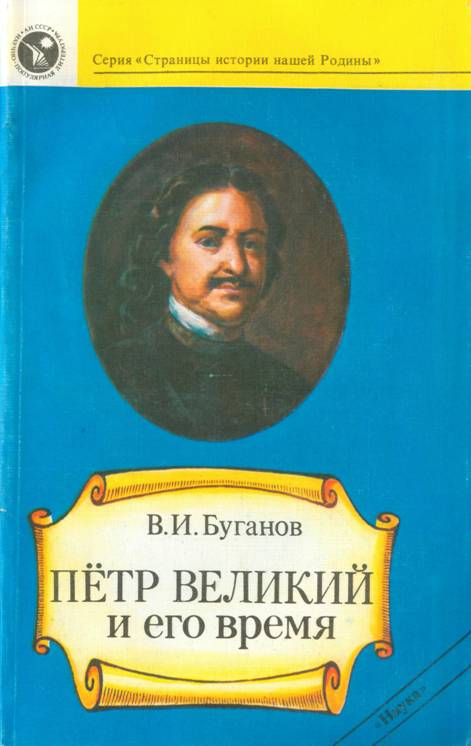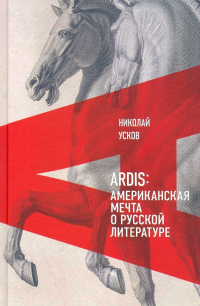Шрифт:
Закладка:
«Россия – наша любовь» – это воспоминания выдающихся польских специалистов по истории, литературе и культуре России Виктории и Ренэ Сливовских. Виктория (1931–2021) – историк, связанный с Институтом истории Польской академии наук, почетный доктор РАН, автор сотен работ о польско-российских отношениях в XIX веке. Прочно вошли в историографию ее публикации об Александре Герцене и судьбах ссыльных поляков в Сибири. Ренэ (1930–2015) – литературовед, переводчик и преподаватель Института русистики Варшавского университета, знаток произведений Антона Чехова, Андрея Платонова и русской эмиграции. Книга рассказывает о жизни, работе, друзьях и знакомых. Но прежде всего она посвящена России, которую они открывали для себя на протяжении более 70 лет со времени учебы в Ленинграде; России, которую они описывают с большим знанием дела, симпатией, но и не без критики. Книга также является важным источником для изучения биографий российских писателей и ученых, с которыми дружила семья Сливовских, в том числе Юрия Лотмана, Романа Якобсона, Натана Эйдельмана, Юлиана Оксмана, Станислава Рассадина, Владимира Дьякова, Ольги Морозовой.