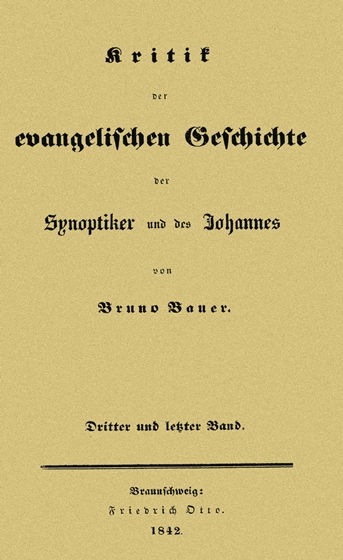Шрифт:
Закладка:
Фигура Освальда Шпенглера (1880–1936) стоит особняком в истории немецкой и мировой мысли. Шпенглер попытался в одиночку переосмыслить общепринятые взгляды на эволюционное развитие человечества: он выступил против линейного описания истории как бесконечного неостановимого прогресса. Вместо этого он предложил концепцию циклического развития, согласно которой новые культуры возникают, переживают период расцвета, а затем проходят через этапы упадка и гибели. Каждый такой цикл длится около тысячи лет, каждая культура обладает отличительными чертами, определяющими мышление и действия людей. Уже само название работы содержит в себе тезис, который обосновывался в книге, – на рубеже XIX–XX столетий культура Западного мира, по мнению Шпенглера, пришла к периоду упадка. Первый том книги был опубликован в 1918 году, принес автору большую известность и вызвал жаркие дискуссии. Эта работа оказала значительное влияние на ученых-социологов Арнольда Джозефа Тойнби, Питирима Сорокина, Хосе Ортегу-и-Гассета.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.