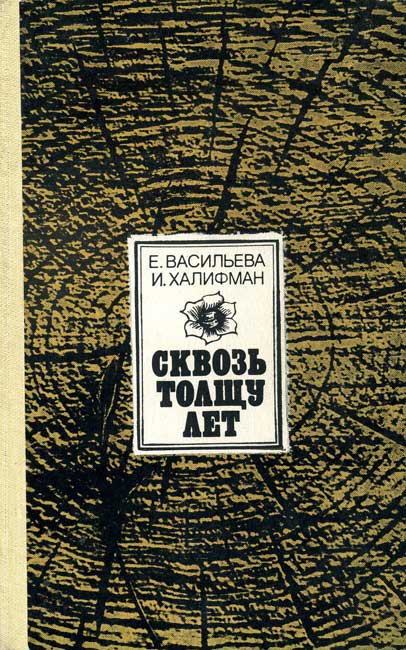Шрифт:
Закладка:
Сквозь толщу лет - это исторический роман о женщине, которая пережила много войн и революций, но не потеряла свою веру и свою любовь. Главная героиня, Мария, - это дочь аристократической семьи, которая жила в России в начале XX века. Она была счастлива и беззаботна, пока не началась Первая мировая война. Она потеряла своего отца и своего жениха на фронте. Она пережила революцию и гражданскую войну, которые разрушили ее семью и ее имущество. Она была вынуждена бежать из своей родины и уехать во Францию. Там она познакомилась с новой любовью - Андреем, который был эмигрантом из России. Они жили в Париже, где они создали свою семью и свой бизнес. Они были счастливы и удачливы, пока не началась Вторая мировая война. Они потеряли своих детей и своих друзей в ходе нацистской оккупации. Они пережили трудности и страдания, но не потеряли друг друга. Они выжили в этом кошмаре и продолжили жить дальше. Они переехали в США, где они нашли новый дом и новые возможности. Они стали стареть и болеть, но не перестали любить и радоваться жизни.
Сквозь толщу лет - это роман о том, как сильна любовь, которая может преодолеть все препятствия и испытания. Это роман о том, как важно быть верным своей судьбе и своему сердцу. Это роман о том, как сложно жить сквозь толщу лет, но как это может быть красиво и достойно. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и узнать, какие события ждут Марию в ее путешествии сквозь толщу лет.