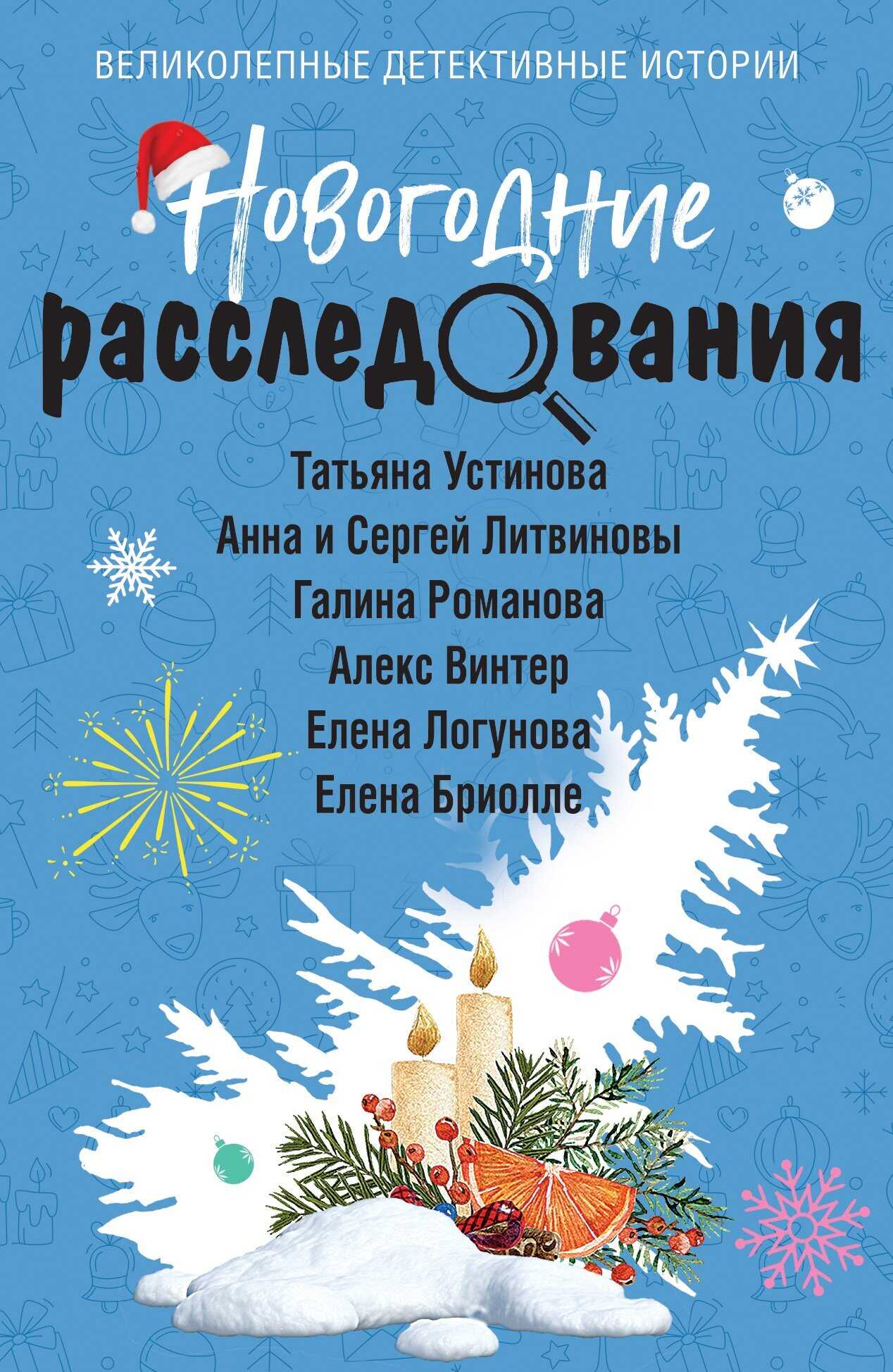Шрифт:
Закладка:
– Ну и оставайтесь тут! А мы в Антарктиду уедем!
И ему за это не попало. Велели всегда так говорить. Малышам раздавали подарки, а нам ничего не дали. Мандаринчик бы хоть, пить хочется. И есть. А домой нельзя, через сорок минут опять елка, для вторых классов. Завтра – три елки подряд и две потом, страшно немного даже. Ладно, заморозим и их. Снежинки вон как отплясывали, старались. Только Стеллка громко топает.
А еще малышам подарки, а нам никому ничего. Всегдашние, бумажные такие, тяжеленькие, разрисованные новогодними картинками, сладко шуршащие пакеты, а внутри, в пахучей норе – конфеты, вафли, мандаринка, яблоко и кедровая шишка. Там же в мешке у Деда Мороза остались еще… Ну, это, наверно, тем детям, кто не пришел. А мы уже большие. Нам завтра дадут, наверно… Завтра правда праздник уже, настоящий, последний день года!
После двух елок подряд наступил долгий перерыв, аж до пяти, когда придут четвертые классы. Слушать «у новогодней елочки зеленые иголочки» им скучно, будут ржать над нами…
Я сняла костюм, чтоб не запачкать, села на подоконник и стала смотреть, как там снаружи: солнце, синее небо, сияние морозной пыли в воздухе. Видно большие горки в овражке у тридцать третьей школы, и там полно народу веселится. Каникулы-то уже начались…
Штин ушел канючить к Светлане Петровне, чтоб дали сыграть Нового года. Интересно, у нас дом пионеров потом костюмы отберет? Мне жалко свой. И Андрюшкин. Конечно, не мешок с лоскутками и пришитыми шишками, а новогодский: просторный серебристый комбинезон, как у космонавта, но с коротким еще, как у пажа из кино «Золушка», плащом в снежинках, с накрахмаленным до геометрии воротником, с пажеским же белым беретом. Бабушка очень любит кино «Золушка». Светлане Петровне такую красотищу нельзя показывать – Туголукову отдаст во имя пионерской взаимо-
выручки. Если Штин в бабушкином серебристом творении Туголукова увидит, будет Битва Пересвета с Челубеем. Не. Еще елку завалят. Так что утром наволочку с костюмом мы с Андрюшкой спрятали за декорациями в Кукольном классе. Вот разрешат если, тогда и будет явление Штина народу.
Андрюшка вернулся красный – разозленный. Все лоскутки на нем встали дыбом. Пометался по залу, не зная, куда деться от ежей и снежинок, и заполз под елку.
Не разрешили. Другого Штина-то нет, Лешего играть. Ежи в середине зала на щелястом крашеном полу резались в значки, девчонки мыкались без дела, одна тонконогая Валька Машина вдоль стены выхаживала по-балетному в бывшей моей пачке с блестками – бабушка велела ей отдать, потому что на репетиции Валька была просто в белой майке с привязанным к лямкам дождиком. А теперь красавица. Штина бы переодеть – тоже стал бы красивый и, может, даже умный… С елки опять уже насыпалось много иголок, целый коврик, и лапы, казалось, она едва держит прямо.
Я пошла посмотреть, что делают пионерские ведьмы. Из дальней учительской пахло растворимым кофе и брынзой. И смотреть нечего. Заглянешь – прогонят. Пусть жуют свою скрипучую брынзу. Все равно она не сыр. И учительская – вовсе не учительская, там просто чайник у них стоит, и толстые тетки в красных галстуках вовсе не бессмертные комсомолки, которые на плакатах ведут детишек в прекрасный новый мир, да и дом пионеров вовсе никакой не дом, никто в нем не живет и жить не захочет. Тут вон даже елка почти померла. Что ж делать-то?
В зале пахло морозом, елка шуршала и звякала от сквозняка, все орали – лешачья задница Штина торчала из форточки, а пацаны дергали его за ноги и за мешок, чтоб втащить обратно. Штин брыкался, но вдруг замер и дал себя вытащить, выпрямился на подоконнике и повел рукой, как директор, когда изображает вождей с трибуны мавзолея:
– А пойдем на горку!
И мы пошли.
Горка была не то что в Егошихинском логу-у-у-у-у-у-ух, а так, детсадовская. И фанерок не было кататься, ну да ладно, можно и на ногах, а шлепнешься, так и веселее, и куча-мала. Пацаны немножко подрались, а девчонки повизжали – не всерьез, а чтоб почувствовать, что жизнь вот она, пахнет морозом. Мы извалялись, избегались вверх, изорались – захотели пить. А в доме пионеров для нас вода – только из-под крана, вонючая. Не. И есть хочется. Штин поел снежку и сказал:
– Ребя, деньги есть? Давайте сгоняем в гастроном за батоном.
У меня было двадцать копеек, уже почти на батон. У Юльки и Вальки по несколько пятачков и трояшек. У Андрюшки – пятнадцать. Все тоже стали рыться по карманам и складывать Стеллке в ладошку копейки, ничего так кучка набралась – почти два рубля. И мы помчались мимо тридцать третьей школы, мимо магазина «Автомобили», отражаясь в его витринах стадом снеговиков, и влетели в пустой гастроном. Стеллка запнулась за порог, шмякнулась, и монетки наши раскатились по грязному кафельному полу. Под Стеллкин вой и причитания старушек, подкарауливающих привоз кефира или чего там им надо, мы шустренько собрали свои копейки – вроде бы даже их стало больше. Обтерли их варежками и купили три батона, тяжелую, скользкую банку самого дешевого, прозрачного березового сока, и еще нам впритирочку, две копейки сдачи, хватило на триста граммов «Лимончиков», колючих сияюще-желтых шариков, кислых даже смотреть, которые из громадного ящика алюминиевым совком насыпали в фунтик из серой бумаги. Стали делить. Каждому вышло по три штучки. Штин, как бурундук, засунул в пасть сразу все, остальные тоже грызли и чмокали, в общем, около магазина «Автомобили» уже было очень охота пить. Ежи попросили дядек, ковырявшихся под капотом «Жигулей», чтоб открыли нам банку с соком – те не прогнали, а тут же засмеялись и подковырнули крышку гаечным ключом. Мы с Юлькой хотели им отдать свои оставшиеся «Лимончики», но дядьки не взяли.
По очереди попили прямо там. Банка, тяжелая и прозрачная, сияла синеватым стеклом на солнце, рябила березками на этикетке. Потом мы попили у горки. Потом разломали батон, и он исчез. Второй тоже. На третьем мы притормозили, сели в снег, доели спокойно – белый-белый мякиш и загорелая корочка, – допили сок. Весь мир теперь пах березовым соком и батоном. С горки было видно тылы дома пионеров с окнами, за которыми в зале мучилась елка, а сверху – большое синее небо. Как же хорошо. Только холодно. И пора. Вон уже многоголовая гусеница на дорожке – четвертый класс ведут из нашей школы. И у тридцать третьей тоже верещат, строятся…
Мы просочились