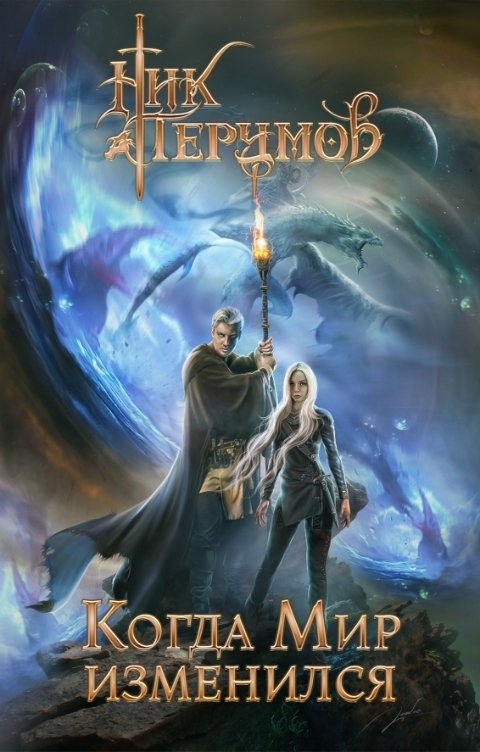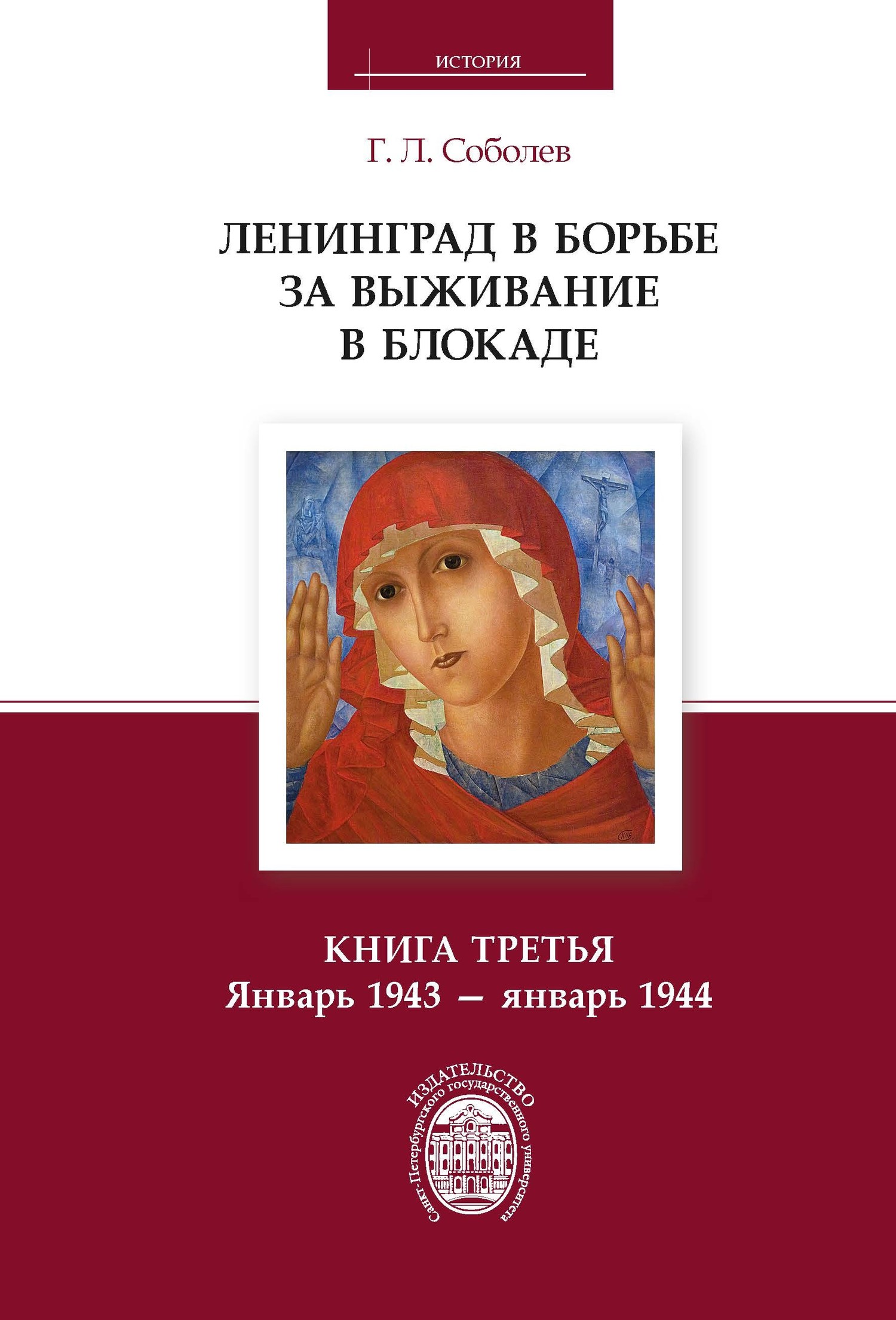Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ник Перумов известен всем поклонникам фэнтези и фантастики, на его книгах выросло два поколения. Распроданы миллионы экземпляров его книг.Новый роман «Смута» – вторая и завершающая книга дилогии «Александровскiе кадеты». Увлекательная история о бравых ребятах из кадетского корпуса, которые оказались на перекрестке времён, где им встречаются люди из самых разных эпох, одержимые собственными идеями.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ник Перумов»: