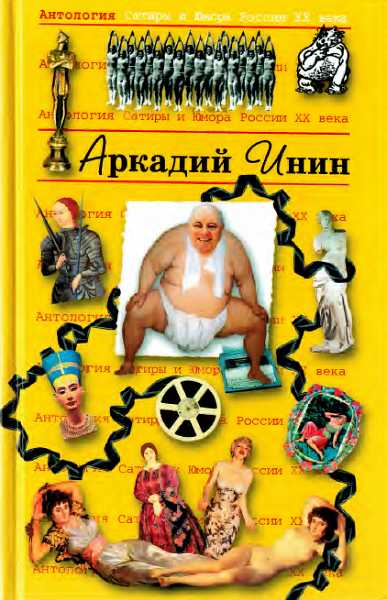Шрифт:
Закладка:
Андрей Никитович Новиков (1888–1941) — важная и интересная фигура в русской литературе XX века, талантливый сатирик, один из немногих друзей А. Платонова. Его произведения, написанные занимательно, с большой долей авторской иронии, затрагивали актуальные проблемы его современности. И в этом он был близок к своему великому земляку А. Платонову, лучшим писателям 1920-х годов, противостоявшим официозу, разрабатывавшим лучшие традиции литературы XIX века. Он принадлежал к числу тех художников, в творчестве которых эпоха определили не только стилистику, героев, но и сформировала мировосприятие. Арестован в 1940 г. за антисоветские высказывания, расстрелян в 1941-м, в начале войны. Данный том избранных повестей и романов — первая публикация после 80-летнего забвения, стремится не только восполнить недостающие страницы русской литературы нашего недавнего прошлого, но и ввести в литературный оборот самобытную прозу А. Новикова