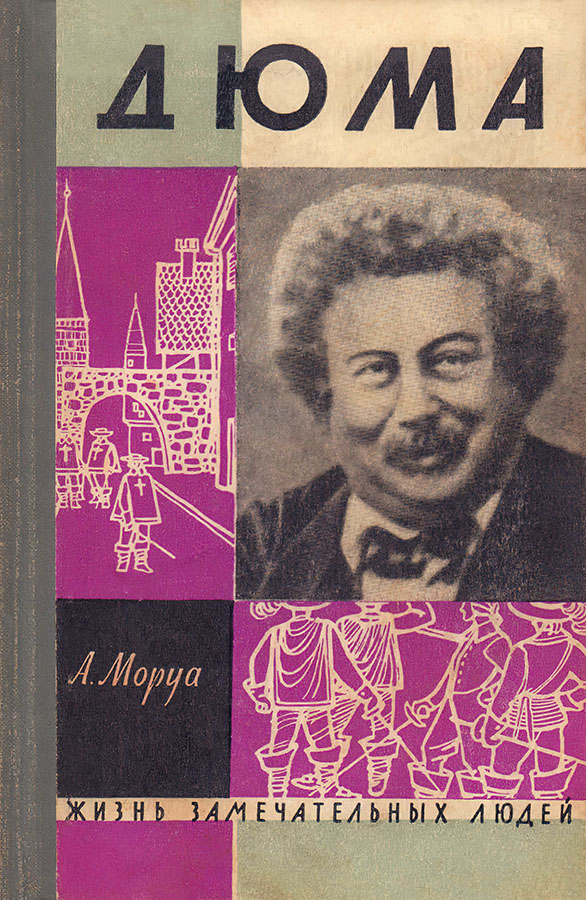Шрифт:
Закладка:
Эрик-Эмманюэль Шмитт – мировая знаменитость, лауреат Гонкуровской премии и многих других наград. Его роман «Оскар и Розовая Дама» читатели назвали книгой, изменившей их жизнь, наряду с Библией, «Маленьким принцем» и «Тремя мушкетерами». Его романы переведены на 45 языков и огромными тиражами выходят в более чем 50 странах. «Путь через века» – грандиозная философско-романтическая сага Шмитта, попытка охватить единым взглядом и осмыслить всю человеческую историю.Прибежище наслаждений и Дом Вечности, еврейские кварталы и дворец фараона, Мемфис и Силиконовая долина… В первой книге эпопеи бессмертный целитель Ноам пережил Всемирный потоп, во втором побывал в Месопотамии. «Темное солнце» переносит его в Древний Египет, где у человечества стало еще больше богов и еще больше власти вершить свою судьбу. Бессмертные люди – Ноам, его вечная возлюбленная Нура, его враг и сводный брат Дерек – попадают в страну, которая изобрела культ бессмертия и подчинила ему политику, науку, искусство и всю человеческую жизнь от первой до последней минуты. На глазах этих троих – Исиды, Осириса, Сета, бессмертием навеки связанных и разлученных, – возводятся египетские пирамиды, евреи обретают единого Бога и уходят из Египта, а жажда вечной жизни становится мостом, соединяющим Древний Египет с Силиконовой долиной наших дней.Впервые на русском!


![Соперница [litres] - Эрик-Эмманюэль Шмитт](/uploads/posts/books/19676/19676.jpg)