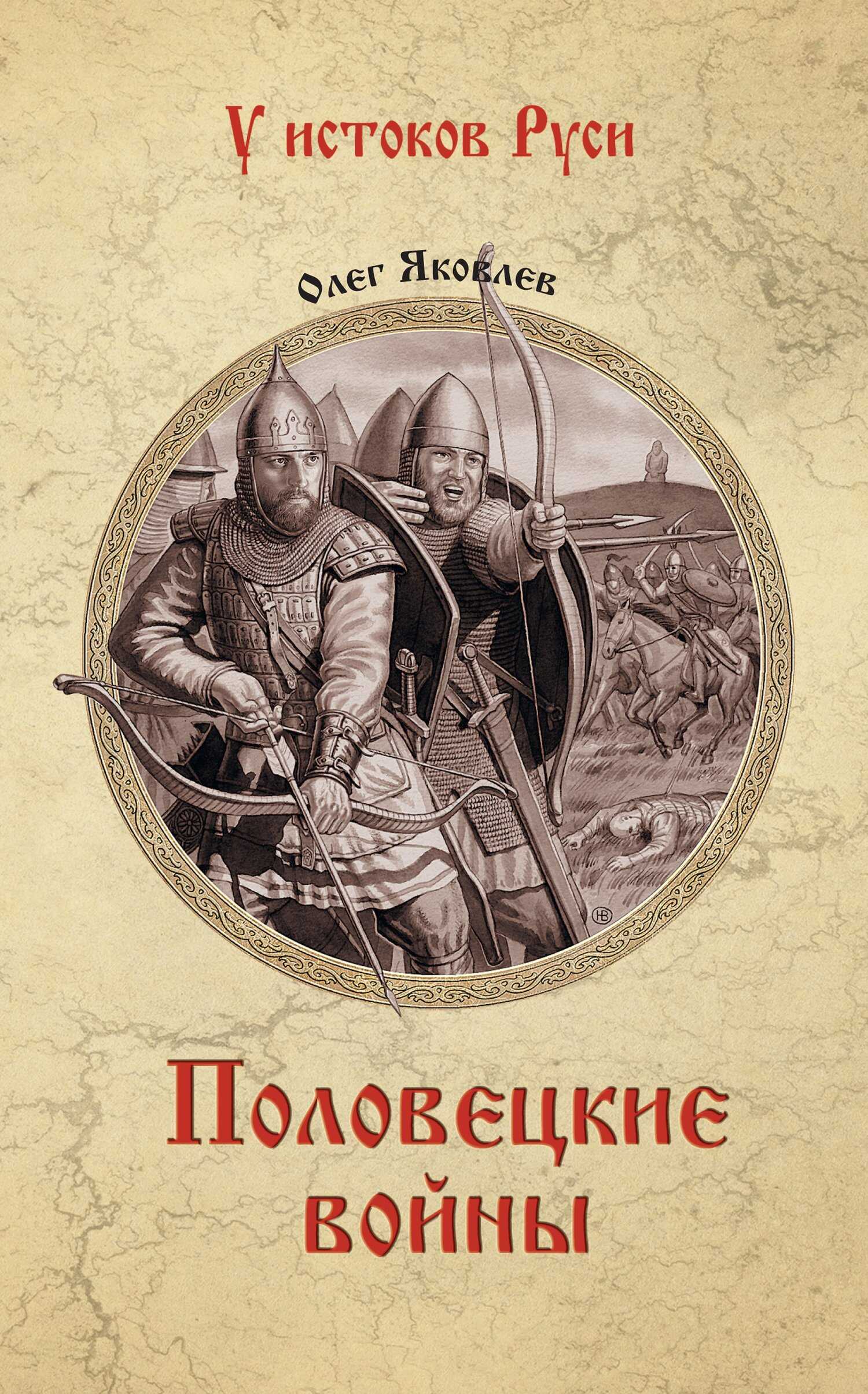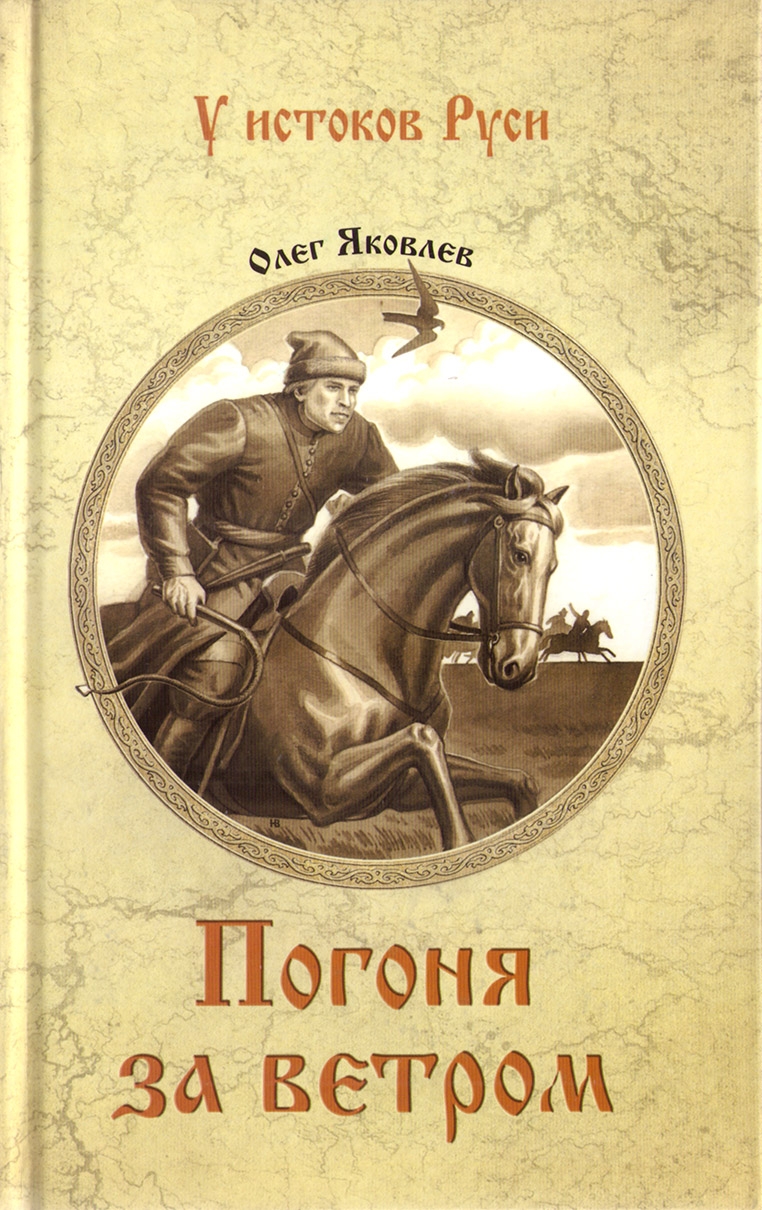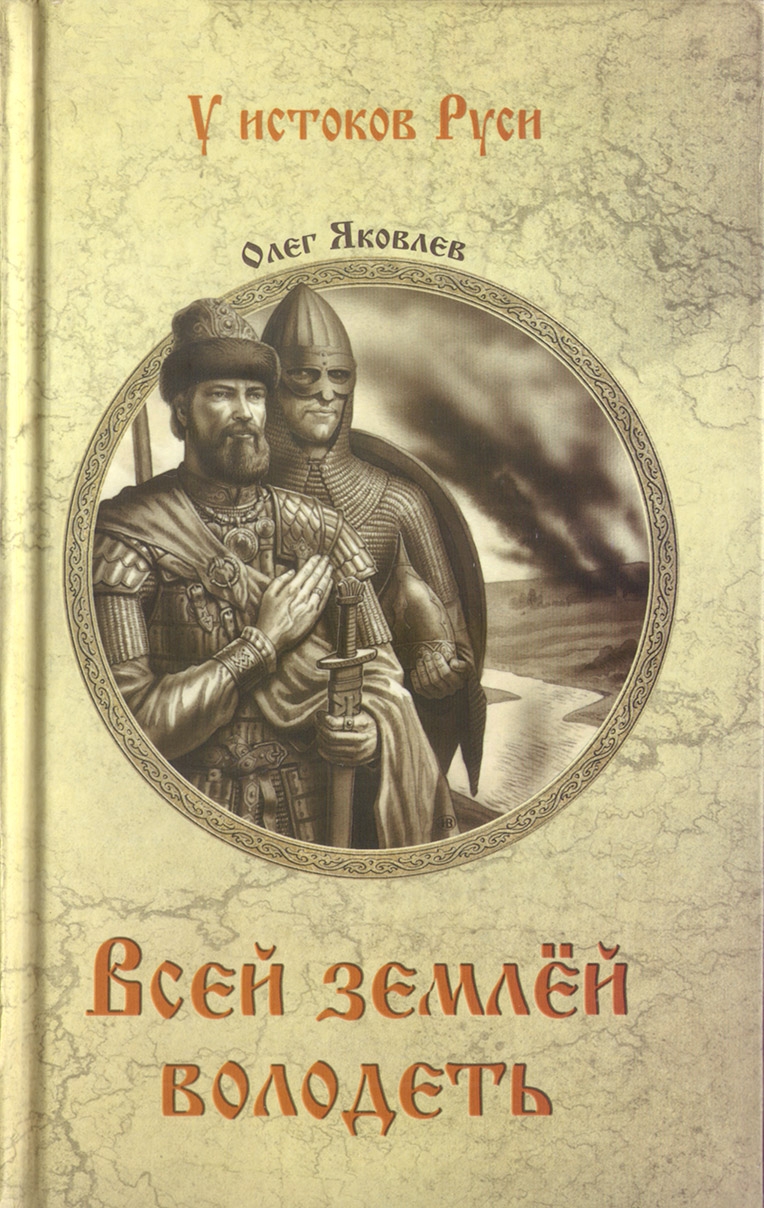Шрифт:
Закладка:
«Погоня за ветром» – исторический роман Олега Яковлева, посвященный событиям XIII века на Руси. В центре сюжета – судьбы двух братьев, галицких князей Льва и Шварна, которые оказались втянуты в борьбу за власть и любовь. Лев, старший сын умершего князя Даниила, не может примириться с тем, что отец завещал престол младшему Шварну. Он затаил злобу на литовского князя Войшелга, который поддержал притязания Шварна, и на его сестру Альдону, жену Шварна. Альдона, юная и красивая княгиня, любит своего мужа, но он слаб и болезнен. Она боится за его жизнь и за будущее их детей. Когда она встречает Варлаама, молодого помощника Льва, она понимает, что он – единственный человек, который может ее понять и защитить. Но как быть с предательством брата и мужа? Как выбрать между любовью и долгом? Как выжить во времена татаро-монгольского ига?
«Погоня за ветром» – захватывающий роман о страстях и интригах, о верности и предательстве, о славе и позоре. Автор умело переносит читателя в эпоху У истоков Руси, показывая жизнь и обычаи того времени. Книга написана ярким и живым языком, полна динамичных сцен и неожиданных поворотов. Это книга для тех, кто любит исторические приключения и романтику.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Надеюсь, вам понравится эта книга! 😊