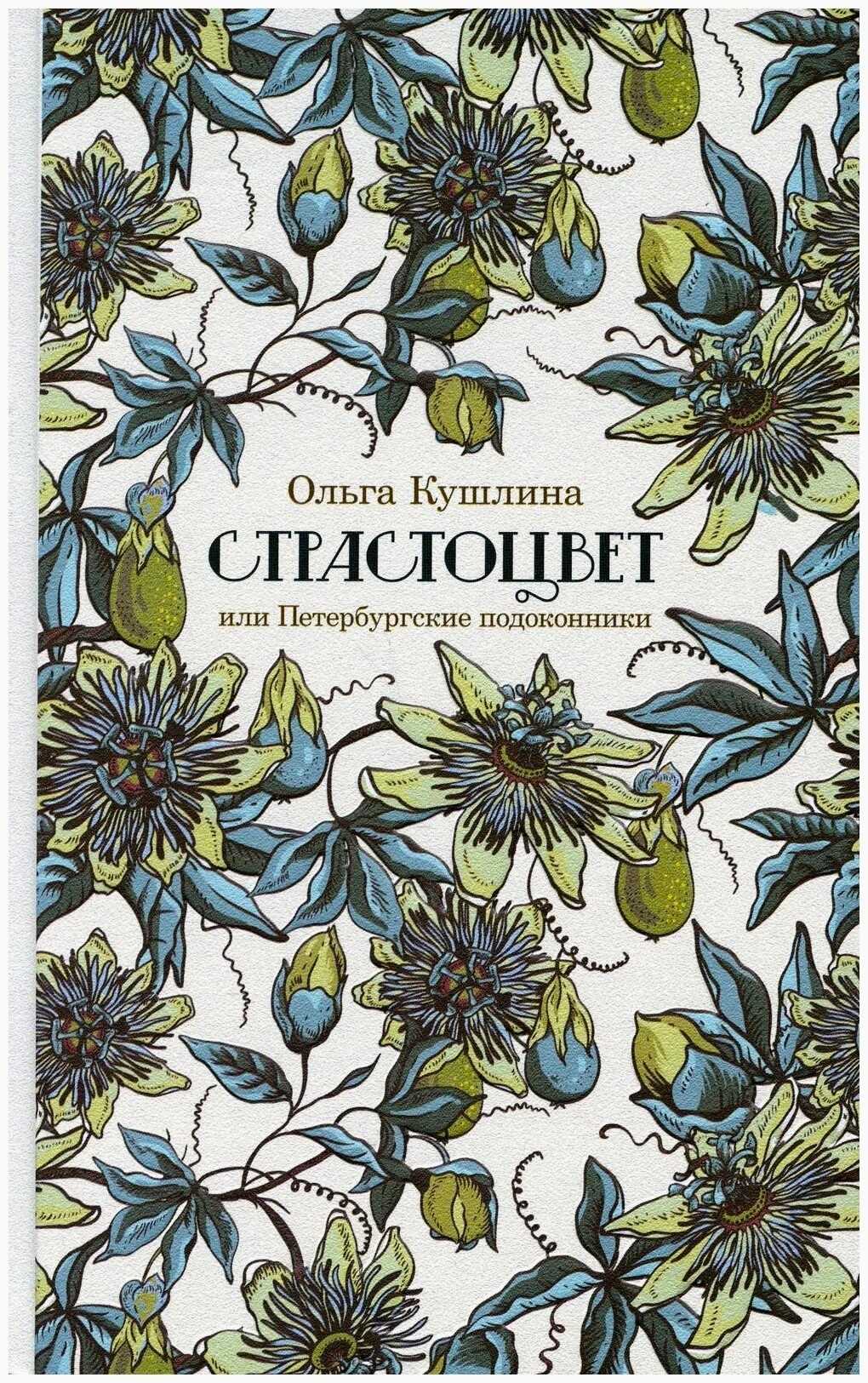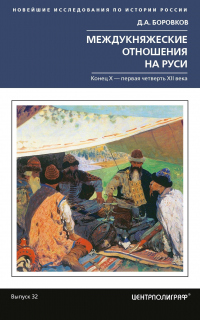Шрифт:
Закладка:
Автор книги рассматривает русскую поэзию конца ХIХ — начала ХХ века под неожиданным углом зрения: каким образом распространение в Европе экзотических растений повлияло на смену художественных стилей и способствовало возникновению модернизма в литературе. Иронический взгляд позволяет сделать неожиданный вывод: не декаденты создали моду на орхидею, но сама орхидея «породила» декадента, а русский символизм «вырос» на подоконниках московской купчихи Матрены Брюсовой. Автор предлагает отнестись к комнатным растениям как к универсальному индикатору обывательских представлений о прекрасном, и в таком случае оказывается, что смена цветов на подоконниках чревата серьезными потрясениями в искусстве. Книга проиллюстрирована рисунками, фотографиями и текстами из старинных изданий по цветоводству, она может послужить кратким справочником по «литературной ботанике».