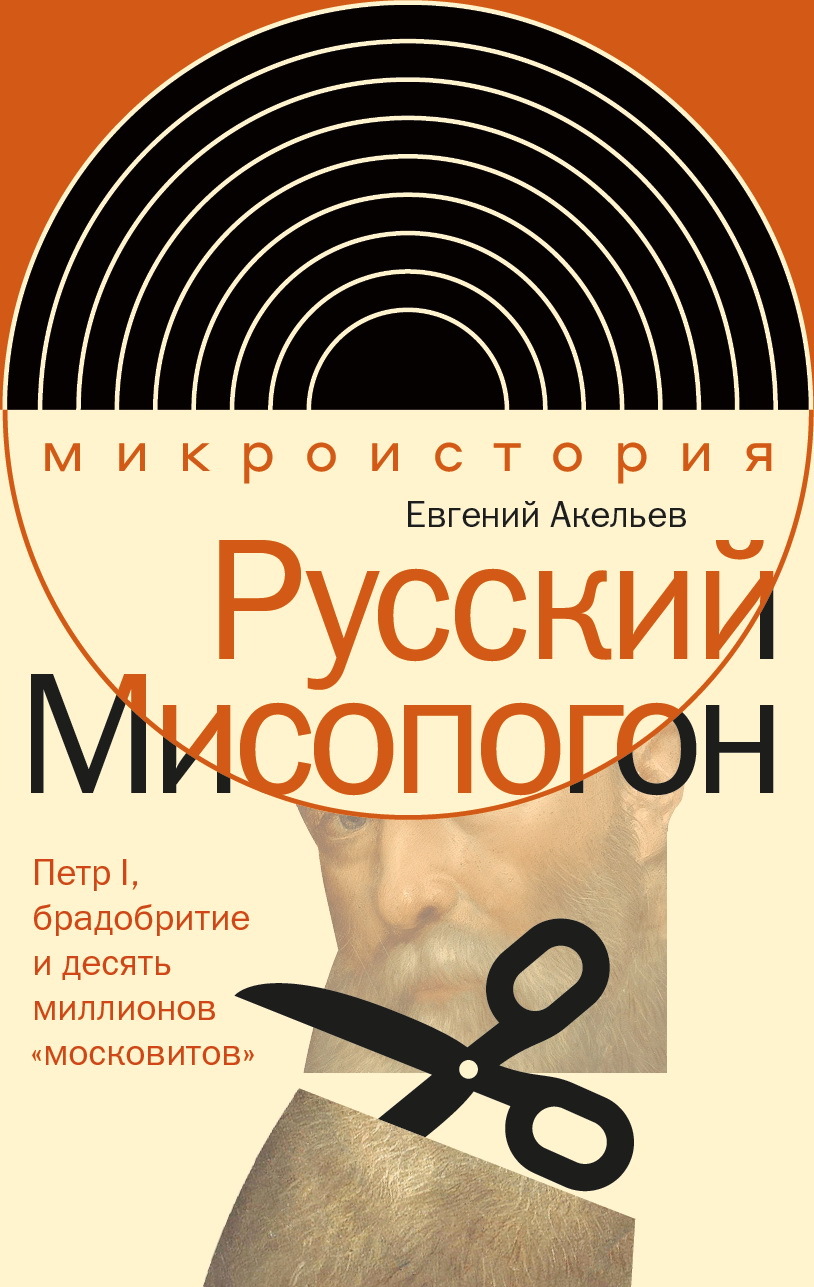Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) признан классиком при жизни, его имя известно всему миру, его книги переведены на десятки иностранных языков. Трагизм и горькая правда его произведений, искренность сразу покорили сердца читателей. В книгу включены практически все рассказы писателя, многие из которых не переиздавали с 70-х годов, а также лучшие знаковые для творческого пути В. Распутина повести.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валентин Григорьевич Распутин»: