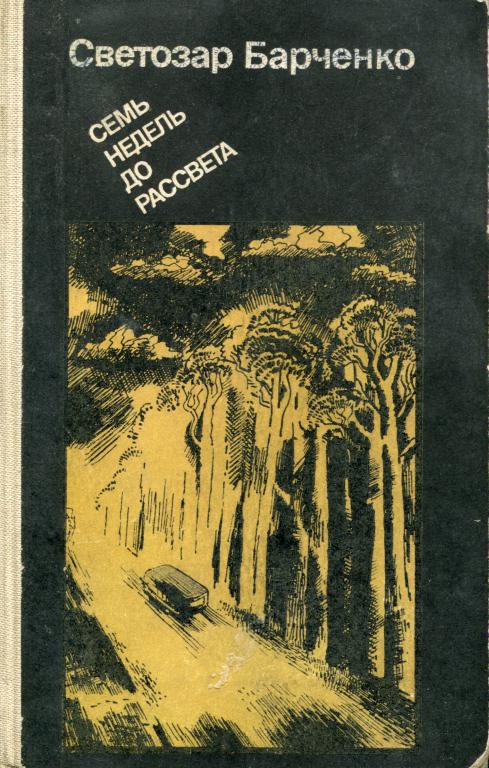Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В годы войны не успевает эвакуироваться детский дом… И вот дни оккупации, когда жизнь человека — ничто, а забота о детях — биологическая основа не только человеческого общежития, но и всякой жизни вообще — остается достоянием только наиболее порядочных и самоотверженных. Горстка советских педагогов ценой невероятных усилий и жертв сохраняет не только жизни, но и души советских детей. Таков сюжет повести «По ту сторону солнца», основного произведения предлагаемой вниманию читателя книги Светозара Барченко, проза которого, отмеченная печатью искренности и высокого морального счета к человеческим делам и помыслам, приобрела уже своих ценителей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Светозар Александрович Барченко»: