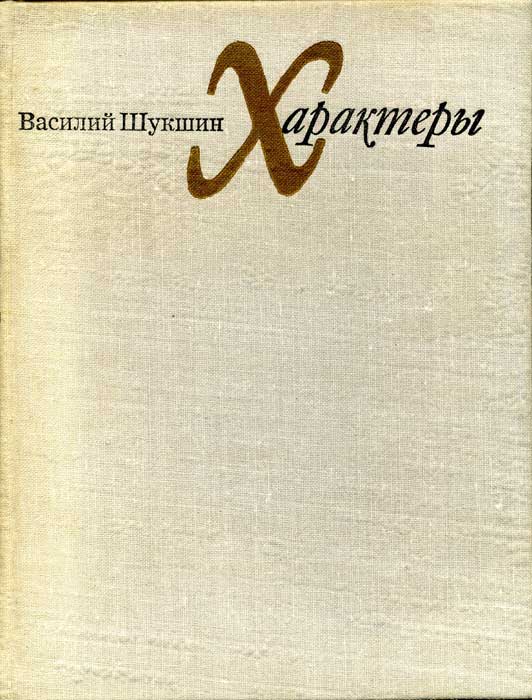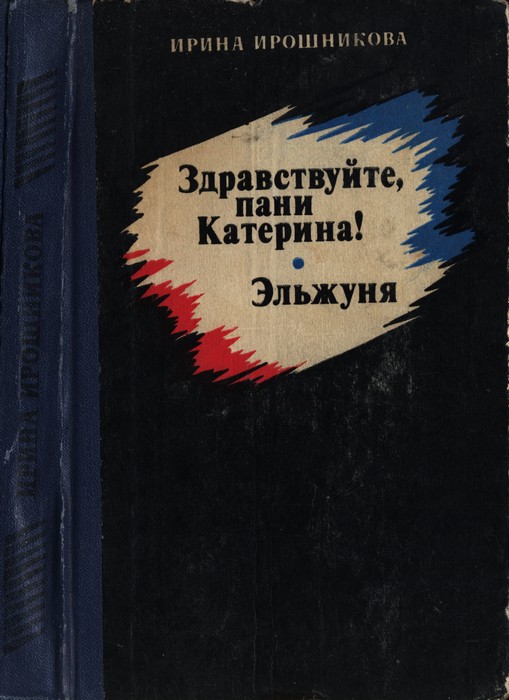Шрифт:
Закладка:
«Да, я никогда такой не была, а теперь вышла. Это ты меня довела… до этого. И с этой поры… ты мне не дочь: я тебя проклинаю и в комиссию прошение пошлю, чтобы тебя в неисправимое заведение отдать».
И вот в этаком-то положении, в таком-то расстройстве, сейчас после такого представления – к нему на встречу!.. и можешь ли ты себе это вообразить, какое выдающееся стенание!
Он, кажется, ничего не заметил, что к нему не все вышли, и стал перед образами молебен читать, – он ведь не поет, а все от себя прочитывает, – но мы никто и не молимся, а только переглядываемся. Мать взглянет на сестру и вид дает, чтобы та еще пошла и Клавдиньку вывела, а Ефросинья сходит да обратный вид подает, что «не идет».
И во второй раз Ефросинья Михайловна пошла, а мать опять все за ней на дверь смотрит. И во второй раз дверь отворяется, и опять Ефросинья Михайловна входит одна и опять подает мину, что «не идет».
А мать мину делает: отчего?
Маргарита Михайловна мне мину дает: иди, дескать, ты уговори.
Я – мину, что это немысли`мо!
А она глазами: «пожалуйста» – и на свое платье показывает: дескать, платье подарю.
Я пошла.
Вхожу, а Клавдинька собирает глиняные оскребки своего статуя, которого мать сшибла.
Я говорю:
«Клавдия Родионовна, бросьте свои трелюзии – утешьте мамашу-то, выйдите, пожалуйста».
А она мне это же мое последнее слово и отвечает:
«Выйдите, пожалуйста!»
Я говорю:
«Жестокое в вас сердце какое! Чужих вам жаль, а мать ничего не стоит утешить, и вы не можете. Ведь это же можно сделать и без всякой без веры».
– Разумеется, – поддержала Аичка.
– Ну конечно! Господи, ведь не во все же веришь, о чем утверждают духовные, но не препятствуешь им, чтобы другие им верили.
Но только что я ей эту назиданию провела, она мне повелевает:
«Выйдите!»
«А за что?»
«За то, – говорит, – что вы – воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. Я не могу вас выносить: вы мне гадкое говорите».
Я вернулась и как только начала объяснять миною все, что было, то и не заметила, что он уже читать перестал и подошел к жардинверке, сломал с одного цветка веточку и этой веточкой стал водой брызгать. И сам всех благодарит и поздравляет, а ничего не поет. Все у него как-то особенно выдающееся.
«Благодарю вас, – говорит, – что вы со мной помолились. Но где же ваши прочие семейные?»
Вот и опять лгать надо о Николае Ивановиче, и солгали, сказали, что его к графу в комиссию потребовали.
«А дочь ваша, где она?»
Ну, тут уже Маргарита Михайловна не выдержала и молча заплакала.
Он понял, и ее, как ангел, обласкал, и говорит:
«Не огорчайтесь, не огорчайтесь! В молодости много необдуманного случается, но потом увидят свою пользу и оставят».
Старуха говорит:
«Дай бог! Дай бог!»
А он успокаивает ее:
«Молитесь, верьте и надейтесь, и она будет такая ж, как все».
А та опять:
«Дай бог».
«И даст бог! По вере вашей и будет вам. А теперь, если она не хочет к нам выйти, то не могу ли я к ней взойти?»
Маргарита Михайловна, услыхав это, от благодарности ему даже в ноги упала, а он ее поднимает и говорит:
«Что вы, что вы!.. Поклоняться одному Богу прилично, а я человек».
А я и Ефросинья Михайловна тою минутою бросились обе в Клавдинькину комнату и говорим:
«Скорее, скорее!.. ты не хотела к нему выйти, так он теперь сам к тебе желает прийти».
«Ну так что же такое?» – отвечает спокойно.
«Он тебя спрашивает, согласна ли ты его принять?»
Клавдинька отвечает:
«Это дом мамашин; в ее доме всякий может идти, куда ей угодно».
Я бегу и говорю:
«Пожалуйте».
А он мне ласково на ответ улыбнулся, а Маргарите Михайловне говорит:
«Я вам говорю, не сокрушайтесь; я чудес не творю, но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и есть, и будут. Проводите меня к ней и на минуту нас оставьте, мы с ней должны говорить в одном вездеприсутствии Божием».
«Конечно, боже мой! разве мы этого не понимаем! Только помоги, Господи!»
– Ну, я бы не вытерпела, – сказала Аичка, – я бы подслушала.
– А ты погоди, не забегай.
XI
Мы его в Клавдинькину дверь впустили, а сами скорее обежали вокруг через столовую, откуда к ней в комнату окно есть над дверью, и вдвоем с Ефросиньей Михайловной на стол влезли, а Маргарита Михайловна, как грузная, на стол лезть побоялась, а только к дверному створу ухо присунула слушать.
Он, как вошел, сейчас же положил ей свою руку на темя и сказал по-духовному:
«Здравствуй, дочь моя!»
А она его руку своею рукою взяла да тихонько с головы и свела и просто пожала, и отвечает ему:
«Здравствуйте».
Он не обиделся и начал с ней дальше хладнокровно на «вы» говорить:
«Могу ли я у вас сесть и побеседовать?»
Она отвечает:
«Если вам это угодно, садитесь, только не запачкайтесь: на вас одежда шелковая, а здесь есть глина».
Он посмотрел на стул и сел и не заметил, как рукавом это ее маленькое Евангельице нечаянно столкнул, а без всякого множественного разговора прямо спросил ее:
«Вы леплением занимаетесь?»
Она отвечает:
«Да, леплю».
«Конечно, вы это делаете не по нужде, а по желанию?»
«Да, и по желанию, и по нужде».
Он на нее посмотрел выразительно:
«По какой же нужде?»
«Всякий человек имеет нужду трудиться; это его назначение, и в этом для него польза».
«Да, если это не для моды, то хорошо».
А она отвечает:
«Если кто и для моды стал заниматься трудом вместо того, что прежде ничего не делал, то и это тоже неплохо».
Понимаешь, вдруг сделала такой оборот, как будто не он, а она ему будет давать назидацию. Но он ее стал строже спрашивать:
«Мне кажется, вы слабы и нездоровы?»
«Нет, – говорит она, – я совершенно здорова».
«Вы, говорят, мясо не едите?»
«Да, не ем».
«А отчего?»
«Мне не нравится».
«Вам вкус не нравится?»
«И вкус, и просто я не люблю видеть перед собою трупы».
Он и удивился:
«Какие, – спрашивает, – трупы?»
Она отвечает:
«Трупы птиц и животных. Кушанья, которые ставят на стол, ведь это всё из их трупов».
«Как! это жаркое или соус – это трупы! Какое пустомыслие! И вы дали обет соблюдать это во всю жизнь?»
«Я не даю никаких обетов».
«Животных, – говорит, – показано употреблять в пищу».
А она отвечает:
«Это до меня не касается».
Он говорит:
«Стало быть, вы и больному не дадите мяса?»
«Отчего же, если ему это нужно, я ему дам».
«Так что же»
«Ничего».
«А кто вас этому научил?»
«Никто».
«Однако как же вам это пришло в голову?»
«Вас это разве интересует?»
«Очень! потому что эта глупость теперь у многих распространяется, и мы ее должны знать».
«В таком разе я вам скажу, как ко мне пришла эта глупость».
«Пожалуйста!»
«Мы жили в деревне с няней, и некому было зарезать цыплят, и мы их не зарезали, и жили, и цыплята жили, и я их кормила, и я увидала, что можно жить, никого не резавши, и мне это понравилось».
«А если б в это время к вам приехал больной человек, для которого надо зарезать цыпленка?»
«Я думаю, что для больного человека я бы цыпленка зарезала».
«Даже сама!»
«Да – даже сама».
«Своими, вот этими, нежными руками!»
«Да – этими руками».
Он воздвиг плечами и говорит:
«Это ужас, какая у вас непоследовательность!»
А она отвечает, что для спасения человека можно сделать и непоследовательность.
«Просто мракобесие! Вы, может быть, и собственности не хотите иметь?»
«При каких обстоятельствах?»
«Это все равно».
«Нет, не равно; если у меня два платья, когда у другой нет ни одного, то я тогда не хочу иметь два платья в моей собственности».
«Вот как!»
«Да ведь это так же и следует, это так и указано!»
И с этим ручку изволит протягивать к тому месту, где у нее всегда ее маленькое Евангельице лежит, а его тут и нет, потому что он его нечаянно смахнул, и теперь он ее сам остановил, – говорит:
«Напрасно будем об этом говорить».
«Отчего же»
«Оттого что вы только к тому всё и клоните, чтобы доказывать, что прямое криво».
«А мне кажется, как будто вы всё только хотите доказать, что кривое прямо!»
«Это, – говорит, – все мракобесие в вас, оттого что вы не несете в семействе своих обязанностей. Отчего вы до сих пор еще девушка?»
«Оттого что я не замужем».
«А почему?»
Она на него воззрилась:
«Как это – почему? Потому что у меня нет мужа».
«Но вы, быть может, и брак отвергаете?»
«Нет, не отвергаю».
«Вы признаете, что самое главное призвание женщины – жить для своей семьи?»
Она отвечает:
«Нет, я иного мнения».
«Какое же ваше