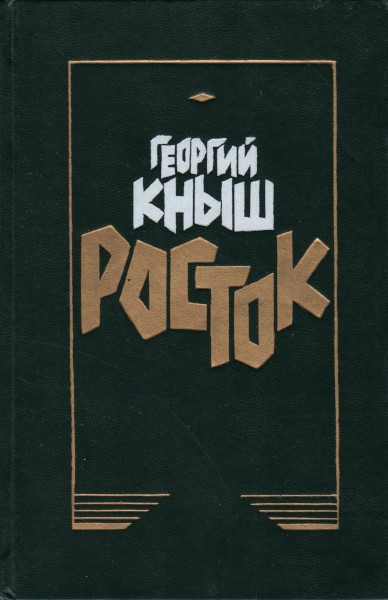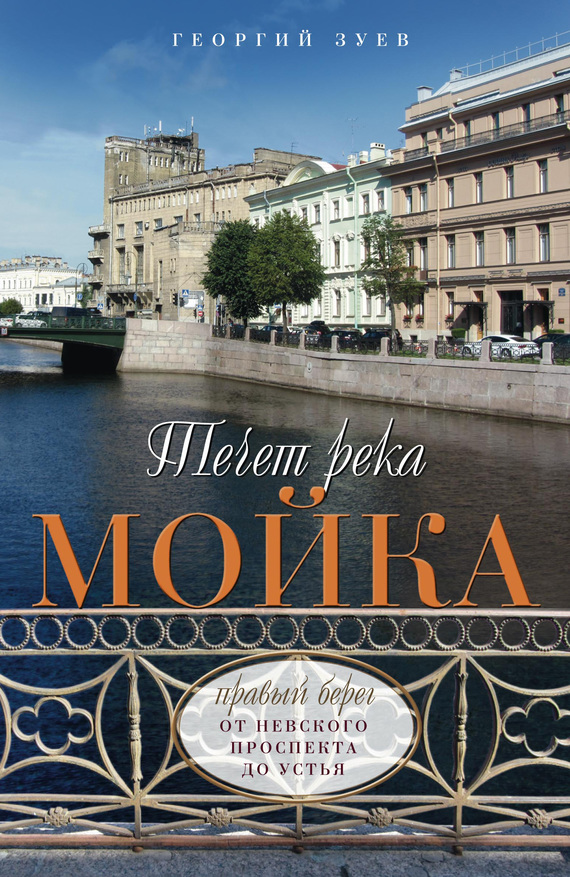Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В романе «Росток» известного украинского писателя Георгия Кныша осмысливаются философские, этические и моральные проблемы, которые стоят перед нашей молодежью в эпоху сегодняшней научно-технической революции.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Георгий Арсентьевич Кныш»: