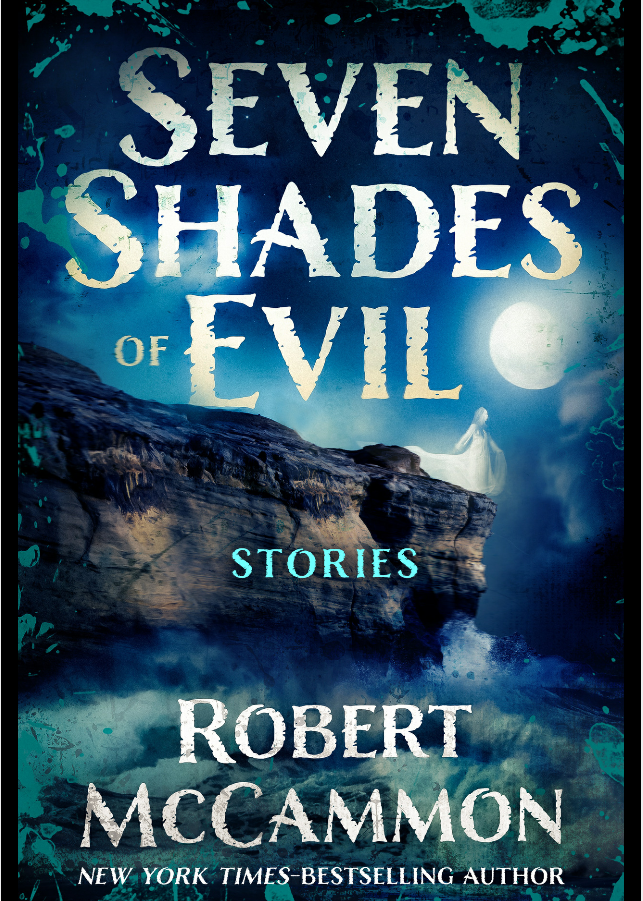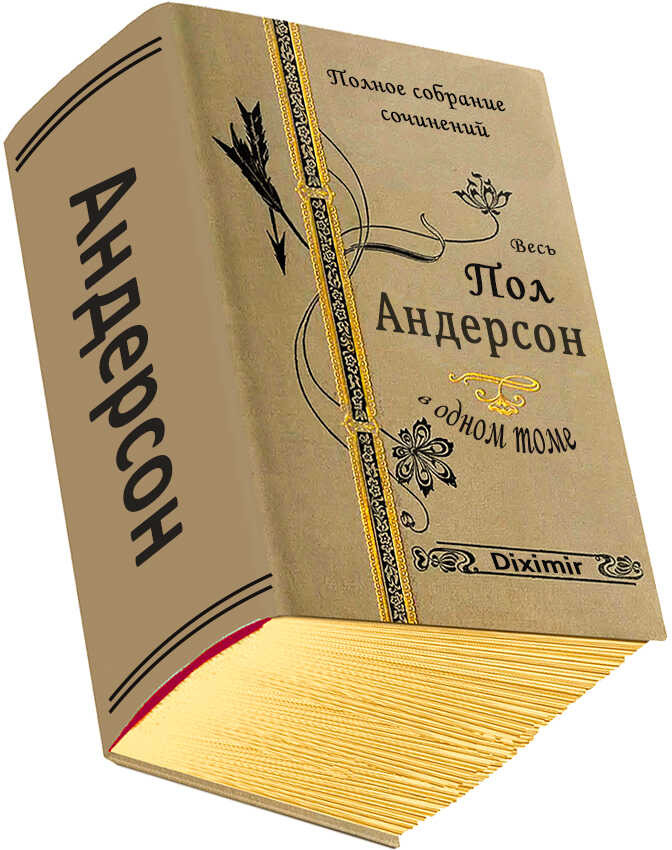Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Маккаммон Роберт Рик — американский писатель. Один из самых популярных и плодовитых мастеров «жути». Здесь он представлен в самом полном и удобном для чтения однотомнике.
Сборка: Diximir (YouTube).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Роберт Рик МакКаммон»: