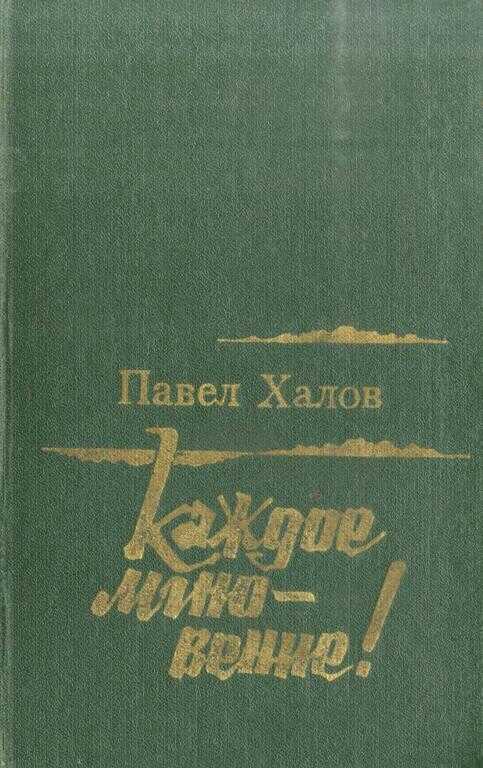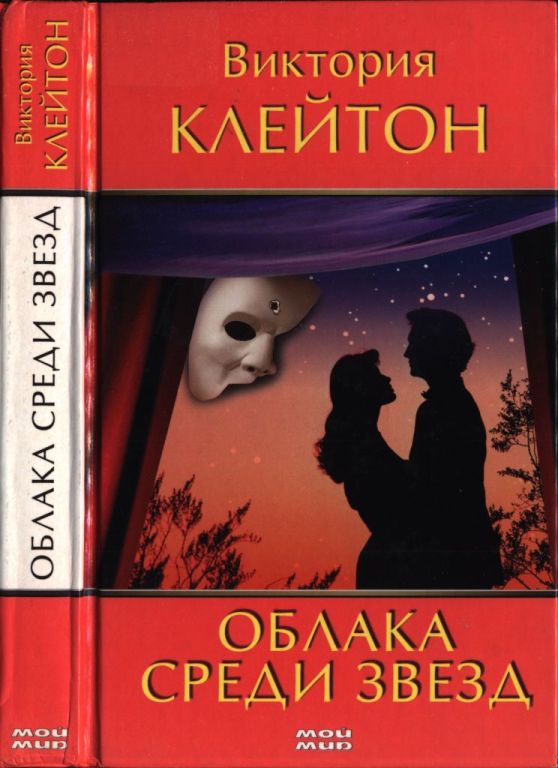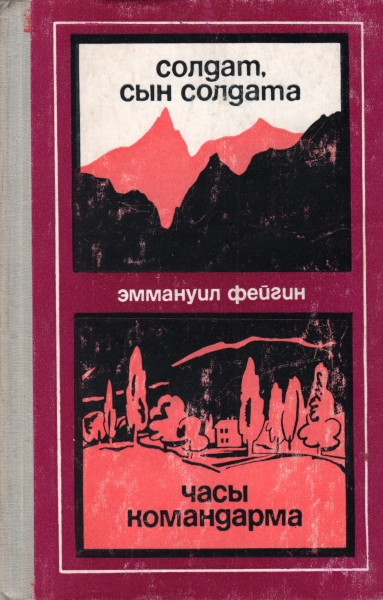Шрифт:
Закладка:
Гаврила в своей речи явно избегал оборотов, где бы пришлось назвать командира командиром или на «вы».
— Сколько служу, ни одного технаря, до конца небу преданного, не встречал, — сказал командир.
Гаврила помолчал, покусывая губы, и ответил осторожно, чтобы не задеть чужого достоинства и не уронить своего.
— А их и не может быть таких. Мы не преданные небу, а приданные ему. Я в полете, как барбос днем — только ушами повожу. Моя служба ночью, на земле. Вот вы сейчас приляжете, а Гаврила фонари — и под капот, только ноги, на заднице торчать будут. — Он помолчал. — А что, Владимир Михайлович, коли попрут меня с казенной горбушки за отсутствие романтики, — возьмешь? Я моторы знаю.
— Возьму, — сказал Воскобойников, твердо опустив кулак на стол и поднимаясь: «уазик» фыркал за стеной.
Проводить вышел Гаврила. Он стоял в светящемся квадрате двери лохматый, грузный, в меховых унтятах — это что надевается в унты — и от этого казалось, что он в носках, что хозяином вышел провожать гостей из своей хаты, наработавшись за день и напировавшись ввечеру.
Воскобойников открыл Коршаку дверцу рядом с водителем, сам забрался на заднее сиденье. Водитель сердито сопел, вел машину резко и резко одолел кювет, и на трассе резко дал газ.
— Не психуй, — сказал Воскобойников. — Не психуй, Коля!
— Ну как же так можно, Владимир Михайлович! Я рядом был — ничего не понял. Ну и ну! — У него не хватало слов. Коля еще по-армейски чист, как стеклышко, и жизненного опыта мало. Недавно он тут, на мерзлой земле. А эта мерзлая земля стучала под колесами. И сквозь тяжелые шины, и сквозь сталь кузова, сквозь мощный и близкий гул хорошего двигателя, охотно отзывающегося на педаль газа, чувствовалось, какая она твердая.
И Коршаку начало постепенно казаться, что он давно здесь живет и не раз едет по этой дороге домой к тем вон огням, что там, среди этих огней, и его огонь, и свет любимых глаз. Не за синими горами и коричневыми реками его погасший, трудный, тревожный дом. Сейчас, в косом свете фар, он увидит, узнает свое крыльцо. Откроется дверь, и выйдет, накинув на плечи теплый платок или его куртку… Он представил себе, как Мария металась по дому, как одевала ничего не понимающего Сережку, как хватала вещи, вся в слезах отчаяния и зла… И вдруг он понял, что и ей было так же больно, больно до глухоты, как и ему. Ведь он так и остался для нее тем Коршаком, который подошел к ней на танцах, — господи, как давно это было! И все время, пока они жили, пока искали себе место на земле, она пыталась удержать его таким, каким встретила, не принимая ничего в нем более. И он сам до сих пор видел и ощущал ее той Марией, которую встретил на острове…
— «Свет любимых глаз», — передразнил он себя. Но что-то потянуло его снова мысленно произнести эти слова…
— У меня есть предложение, — сказал сзади Воскобойников, — поедем ко мне? — И он не стал ждать, когда Коршак ответит ему. — Ко мне, Николай, — распорядился твердо и уже мягче, для Коршака, добавил: — Здесь недалеко.
Воскобойников занимал сборный «особняк». Снаружи этот домик ничем не отличался от множества таких же. Две крохотные комнатки, кухня, похожая на умывальную в железнодорожном вагоне. Но такой дух витал в его жилье, словно женщина или только что вышла, или часто бывала здесь. Тахта, покрытая меховым покрывалом, стеллаж с книгами почти по всему периметру комнаты — этакий «дизайновый» — с нишами для приемника и магнитофона, настольная лампа, торшер. Даже лампочка была не голой, а в изящном, не убивающем света плафоне. Только на столе и на полу, крытом паласом, лежали рулоны чертежей, папки с бумагами, книги, справочники. Жить здесь собирались долго. А у входа, так, чтобы было видно с рабочего места, к дощатой стене был прикреплен портрет Хемингуэя в светлом грубом свитере. Седая борода, седины торчком на висках, сдержанно страстный и одновременно ожидающий взгляд, точно Хем видит не века перед собой, не все человечество, а следит за идущим по заснеженному полю другом.
— Располагайтесь, — сказал Воскобойников, принимая у Коршака одежду. И уже из кухни добавил: — Если хотите есть — будем есть… Или кофе? Вы его пьете на ночь?
— Давайте кофе.
Коршак устроился так, чтобы ему было видно Воскобойникова на кухне.
— Вы из Москвы, Володя, вы позволите по имени?
— Ради бога. Я давно оттуда. — Он неожиданно засмеялся. — Я давно из Москвы, но я всегда оттуда. Там и мама у меня.
— Мне знаком ваш дом. Нет, не то чтобы знаком, а понятен. А вот я никогда не умел так врастать в землю, — сказал Коршак, когда Воскобойников появился с кофейничком и чашками. — Я всегда представлял себе свой дом другим или вообще не мог представить.
Он приналег на это слово «свой», мысленно отделяя дом, в котором действительно жил, от того, какой мечтался ему все время.
— Вы знаете, — медленно проговорил Воскобойников, — ведь я совершенно четко понимаю, о чей вы говорите. Но у меня один дом — этот.
И странное, и удивительное это качество Воскобойникова, понятое Коршаком с первых минут их знакомства, — слушать особенно остро, с каким-то предвидением, что ли, — вновь поразило его.
— Я не представил вас этим людям, неуместно было бы. Вы сейчас поймете.
Воскобойников поднялся, подошел к письменному столу и вернулся с рулоном кальки. Пристроить ее было некуда. Тогда Коршак сказал:
— Давайте на стол, а кофе на пол поставим.
— Сейчас вы поймете, — повторил Воскобойников. — Вот наш участок. На всех картах — это маленький червячок. Нас с вами сейчас там и не видно было бы. Но это — наш участок, мой участок. А те двое — авторы проекта. Их, авторов, много, но и они авторы, а первый — даже руководитель. Они, ученые, прилетели ко мне, к угрюмому исполнителю. Дело не в названии, черт возьми! Дело вот в чем: удобно считать себя великанами, стоящими на плечах карликов. Труднее считать себя просто человеком, стоящим на плечах гигантов. Я не хотел начинать с теории. Я хотел сначала показать вам. Но они прилетели, эти люди… Как вы думаете, сколько было попыток сделать то же самое, чем занимаемся мы сейчас? Вот